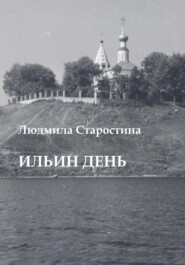 Полная версия
Полная версияИльин день
Стояло раннее августовское утро. Солнце еще не поднялось высоко, над Волгой стелился туман. Люди, только что вышедшие из теплого дома, чувствовали прохладу и сырость. Но все были веселы, никому не хотелось вернуться обратно в дом. Наоборот, хотелось скорее сесть в лодку и лететь, лететь по зеркальной глади воды туда, во влажный утренний лес, где на листьях сверкают капли росы, и царит крепкий волнующий аромат грибов.
Участники грибного похода размещались в лодке. Взрослые – на лавочках и на широком металлическом носу «казанки». Детей сажали под ноги взрослых – на дощатый пол «корабля», что было целесообразно во всех отношениях. Тяжелая, перегруженная лодка делала плавный разворот у причала и направлялась вдоль берега, в сторону леса.
Грибов, действительно, собирали очень много. Часам к 12 утра дядя Костя привозил грибников обратно домой, Женщины, разделившись на группы, усаживалась разбирать и чистить привезенные трофеи. Мальчиков к этой работе не привлекали, а девочки – будьте любезны! – садитесь вместе со взрослыми и работайте. Разгорались керосинки, часть грибов начинали тут же отваривать, жарить. Самые крепкие белые грибы и подосиновики следовало резать определенным образом. Бабушки раскладывали их на газеты, на противни, и ставили на теплую печку – сушить. Солянки и волнушки предназначались для соления, их откладывали в специальное ведерко.
К обеду были готовы несколько сковородок жареных грибов со сметаной. Обед проходил весело. После обеда всем хотелось отдохнуть, взрослые разбредались по углам, Дети, как всегда, бежали к воде, и там, на зеленой траве и на теплом песке, продолжалась их детская жизнь.
Почти каждый год (я не помню исключений) 3 августа, ближе к вечеру, над Волгой начинали собираться тяжелые фиолетовые тучи. Они постепенно застилали все небо. Издалека доносились раскаты грома, по звуку похожие на перекатывание огромных камней. Гром приближался, над водой начинали сверкать молнии. Поднимался ветер, начиналась сильнейшая гроза. Крупные теплые капли дождя падали на землю, на песок и на головы людей, которые не успели добежать до какого-нибудь укрытия. Тем, кого гроза заставала на берегу Волги, на лугу, казалось, что началось светопреставление. Все бежали, кто куда мог. Однажды мы с моей троюродной сестрой Мариной, подростками, гуляли и попали в такую переделку довольно далеко от дома. Мы в течение одной минуты промокли до нитки и залезли под какую-то старую перевернутую лодку, лежавшую на берегу. Пока мы под нее забирались, исцарапались в кровь о гвозди, торчащие из корпуса лодки, но это была ерунда по сравнению с тем, что творилось вокруг нас. Вокруг бушевала буря, грохотал гром, а мы лежали под лодкой, мокрые, исцарапанные, и хохотали от восторга и ужаса.
Дедушка Илья Алексеевич не удивлялся погодному катаклизму, он наперед знал, что в этот день все именно так и будет. Он наблюдал за всем происходящим сидя дома, у окна, говорил: «Илья-пророк на колеснице едет!». И улыбался, довольный тем, что и на этот раз Илья-пророк не подвел, свой день отметил ярко и громко, как положено!
К ночи резко холодало. На следующий день было очевидно, что погода переменилась, вода в Волге стала холодной, жаркое лето кончилось.
Гости в доме Мордаевых с утра начинали собираться и уезжали, один за другим. Дядя Костя на лодке перевозил всех по очереди на противоположный берег Волги, туда, где проходит шоссе Москва – Ленинград, откуда начинаются все дороги. В Едимонове, на берегу, мокром от ночного дождя, отъезжающих провожали Илья Алексеевич с женой Анной Ивановной, и две его сестры – Екатерина Алексеевна и Мария Алексеевна. Сестры оставались погостить у брата еще несколько дней. Все обнимались, прощались, желали счастливой дороги. И отъезжающие, и остающиеся на берегу кричали друг другу: «Приезжайте к нам! Приезжайте! Приезжайте!». И каждый знал, что родные зовут его к себе в гости от чистого сердца, и все будут искренне рады новым встречам.
Этой прощальной сценой можно было бы завершить рассказ о праздновании Ильина дня в нашей замечательной семье.
Но мне бы хотелось вспомнить и рассказать еще об одной составляющей духовного, или лучше сказать – душевного общения в нашем семейном кругу. Отмечая Ильин день или еще какой-либо праздник, собираясь за общим семейным столом, люди пели песни.
Глава 52. ПЕСНИ
Для многих сейчас, в наше время, пение песен за столом представляется чем-то странным, смешным, неприличным, во всяком случае, связанным с большим количеством выпитой водки. В те годы, когда я была девочкой, и мне выпадало счастье (счастье!) участвовать в семейных праздниках в селе Едимонове, где собирались четыре поколения членов нашего большого рода, люди пели за столом вовсе не потому, что были пьяны. И, кстати, пили не много. Женщины в нашей семье вообще не употребляли алкогольных напитков, исключение делали только для домашнего солодового пива, которое варила к празднику хозяйка дома Анна Ивановна. И у мужчин не было цели – напиться. Цель состояла в том, чтобы выразить добрые чувства своим родным и получить от них в ответ такие же добрые чувства.
Пели за столом и мужчины, и женщины. Современные песни были не в ходу, видимо, они были не интересны, поскольку не несли тех эмоций, которых ждали и, возможно, жаждали души людей. Пели песни старинные и военные:
«По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах».
Я не могла слушать эту песню без замирания сердца, представляла себе, как бродягу встречает родимая мать и говорит ему:
«Отец твой давно уж в могиле,
Землею сырою зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит».
В общем, ужас.
Непременно пели «Славное море, священный Байкал», «Когда б имел златые горы и реки полные вина…», «Ванька-ключник, злой разлучник, разлучил князя с женой…» и еще целый ряд других песен, полных трагизма и глубоких человеческих чувств.
Молодые женщины начинали петь, что называется, «для затравки». Но всем хотелось, чтобы в пение включились женщины старшего поколения, бабушки. Они пели очень хорошо. Но главное, чтобы петь начала хозяйка дома, Анна Ивановна Мордаева. Напомню, она с детства пела в церковном хоре, потом, когда была уже взрослой женщиной, люди специально ходили в церковь, чтобы послушать ее голос, звучащий с клироса. Действительно, голос у нее был редкий, высокий и сильный, даже в старости. Когда она пела в застолье, ей вторили голоса других женщин, иногда подхватывали мужчины, но ее голос был ведущим, главным. У меня перехватывало дыхание, я едва сдерживала слезы вне зависимости от того, насколько я понимала содержание песни.
В обязательную программу празднования Ильина дня входила любимая песня дедушки Ильи Алексеевича:
«Уроди-и-лася я,
Как былинка в по-о-ле.
Моя молодость прошла
У людей в нево-о-ле…».
Дальше шло перечисление печалей бедной девушки, которую «никто замуж не берет», потому что она «плоха одета». Что же ей, бедной, делать? Надежда у нее была одна:
«Пойду с горя в монастырь,
Богу помолю-ю-ся,
Пред иконою свято-о-й
Слезами залью-ю-ся.
Не пошлет ли мне Господь
Доли той счастли-и-вой,
Не полюбит ли меня
Молодец краси-и-вый?».
У меня, девочки, сидевшей у краешка стола, на табуреточке, глаза были полны слез от жалости к бедной девушке. Но где-то в подсознании уже было записано: если что – надо идти в монастырь, плакать перед иконами и просить, чтобы молодец был обязательно красивый. Красивый! Это мне нравилось в песне больше всего.
Моя бабушка Екатерина Алексеевна любила песню:
«Ой, да ты калинушка,
Ой, да ты малинушка,
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой…»
Это очень трагическая песня, разумеется, не про калину и не про малину, а про то, что по синему морю плывет корабль в далекие, чужие края. На том корабле плывут два полка солдат, молодых ребят, их везут, видимо, на войну, и мало кому из них удастся вернуться домой живым. Один из солдатиков стоит на палубе и молится Богу. В общем, все очень печально. Песня длинная, ее никогда не допевали до конца. Но пока пели первые несколько куплетов, все успевали вспомнить страшные дни войны, ощущения неизбежности и неотвратимости трагедии, которая, возможно, ждет впереди. Бабушка, наверное, вспоминала своего погибшего сына Костю.
Хозяйка дома Анна Ивановна, когда видела, что трапеза за столом заканчивается, все сыты, невестки собирают и моют посуду, т. е. от нее, от хозяйки, больше ничего не требуется, начинала петь свою любимую песню:
«Ой, ты сад, ты мой сад,
Сад зелененький,
Ты зачем рано цветешь,
Осыпаешься?»
Песня очень длинная и очень красивая. Ее подхватывали все, старались петь на несколько голосов. Слушать было – наслаждение. Но в течение многих лет, пока я была девочкой, содержание ее мне было совершенно не понятно. В середине песни речь вдруг заходила о том, что птица летела в далекие края и уронила перышко со своего крыла. И дальше:
«Мне не жалко крыла,
Жалко перышка.
Мне не жалко мать-отца,
Жалко молодца…».
И только спустя несколько лет, повзрослев, я поняла, что эта песня – о любви! О той самой любви, при которой и мать-отца забывают, и сад цветет и осыпается раньше времени, и все это только ради одного – ради любимого молодца… И эта любовь, зараза, существовала, оказывается, всегда, и когда бабушки были молодыми девушками, и даже еще раньше…
Мы, дети, слушали эти песни синими августовскими вечерами, и в наши души сами собой вливались неясные еще для нас знания и чувства, веками накопленные предками: о горькой бедности, о несчастной любви, о неизбежности жертв и потерь. Но мужчины, наши молодые отцы, сравнительно недавно пришедшие победителями со страшной войны, пели свои песни: «Броня крепка, и танки наши быстры…», «И залпы наших батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь! Огонь!». И грустные мысли улетали. Приходило ощущение, что все хорошо на свете, все спокойно. Добрые руки наших мам и бабушек будут с нами всегда, наши геройские отцы смогут защитить нас от любых бед. А за калиткой дедушкиного сада нас ждут россыпи ярких звезд на ночном небе, таинственная гладь темной волжской воды и на ней – сверкающая лунная дорожка, которая у каждого – своя.

