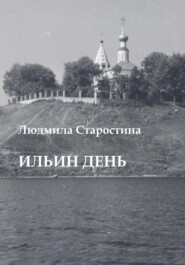 Полная версия
Полная версияИльин день
Ранение его было очень серьезным. Были сильно обожжены лицо, руки, дыхательные пути и самое главное – глаза. В течение нескольких месяцев его переводили из одного госпиталя в другой, лечили обожженные участки кожи, старались сохранить глаза. День Победы 9 мая 1945 года бравый танкист Саша Натчук встретил в госпитале, в городе Кенигсберге. Ему только что исполнилось 23 года. Правильное лечение, молодость и природное здоровье позволили преодолеть последствия ранения. Врачебная комиссия пришла к выводу, что по состоянию здоровья сержант Натчук демобилизации не подлежит, т.е. должен продолжать службу в армии.
После госпиталя Саша получил краткосрочный отпуск, съездил домой в Москву, побыл немного с мамой и сестрой, легко влюбил в себя всю женскую часть населения Зельева переулка, и вернулся обратно в свою часть, которая в это время дислоцировалась на территории Польши. Демобилизовали Сашу только в 1947 году.
Глава 47. МОРДАЕВЫ, ОТЕЦ И ТРИ СЫНА
Из семейства Мордаевых в Великой Отечественной войне принимали участие четверо мужчин: глава семейства Илья Алексеевич и трое его сыновей – Василий, Петр и Константин. Каждый из них достоин того, чтобы его фронтовая биография осталась не только в государственных архивах, но и в памяти родных людей, которые, возможно (я надеюсь!), сочтут нужным рассказать о них своим детям, внукам, друзьям. Чтобы не умерла память, чтобы не исчезла наша живая история.
«Военная» биография Ильи Алексеевича Мордаева началась еще в годы Первой мировой войны. Он был призван в армию в 1915 году. В семейном альбоме сохранились несколько фотоснимков, на которых молодой Илья Мордаев запечатлен в форме и фуражке солдата царской армии. Дочь Ильи Алексеевича Нина рассказывала, что спустя много лет после войны иногда к ним в дом в Едимонове приходил сосед, такой же пожилой человек, как и Илья Алексеевич. Фамилия соседа была Салтыков. И они, два старых солдата, Салтыков и Мордаев, долго сидели, разговаривали и вспоминали, как они молодыми людьми вместе служили на Кавказе.
В 1941 году, когда началась война с гитлеровской Германией, Илье Алексеевичу было 44 года. Первая волна мобилизации увела из дома трех его сыновей. Отца в армию не призвали. Но в разгар войны, когда советские войска от оборонительных боев перешли в решительное наступление, ситуация на фронтах складывалась так, что для окончательного разгрома врага требовалось подтянуть все резервы. Илью Алексеевича в числе других мужчин призвали в армию в 1944 году. К этому моменту ему исполнилось уже 47 лет.
Выписка из общего наградного листа 465-го зенитного артиллерийского полка 7-ой зенитной артиллерийской бригады Пушкинской Краснознаменной дивизии Северо-Западного фронта:
«Мордаев Илья Алексеевич, 1897 года рождения, ефрейтор, телефонист 4-ой батареи в боях в районе г. Сааремаа под сильным минометным огнем противника обеспечил бесперебойную связь с КП полка, устранив до 30 обрывов линии связи. Представляется к награждению медалью «За боевые заслуги». Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда».
После окончания Великой Отечественной войны, летом 1945 года, когда уже полным ходом шла демобилизация из армии усталых, вдоволь навоевавшихся солдат, Илья Алексеевич тоже надеялся вскоре отправиться домой. Но его часть оказалась в составе группы войск, которая была направлена из Германии прямо на Дальний Восток. Там «под занавес» мировой войны Япония решила проявить агрессию против Советского Союза. Японцам необходимо было дать отпор. И наш Илья Алексеевич, старый солдат, в военном эшелоне, в солдатской «теплушке» промчался из Германии через всю нашу страну, мимо своей Тверской области, до самого Дальнего Востока. И там, надо полагать, также внес свой вклад в победу над Японией.
В семье, где были четверо настоящих фронтовиков, не принято было рассказывать о военных подвигах. Но если кто-нибудь из сыновей Мордаевых случайно в разговоре вспоминал о том, что Илья Алексеевич после того, как разделались с «фрицами», успел поучаствовать еще и в войне с японцами, все смеялись, говорили: «С Японией воевать – и то не обошлись без нашего отца!».
Кстати, Илья Алексеевич после демобилизации, возвращаясь из Японии к себе в Едимоново, не мог не заехать в Москву к своей любимой сестре Кате, Екатерине Алексеевне. Заехал, погостил, отогрелся душой в семье любимых родственников и оставил Кате в подарок два красивых шелковых японских шарфа – красный и розовый с замысловатым черным орнаментом. Розовый шарф был, видимо, слишком ярким для сурового послевоенного времени, поэтому его никто не носил. Я родилась через много лет после этих событий, и когда мне было два-три года, японскому шарфу нашлось применение: мне сшили нарядное платьице из этого самого розового шарфа. Таким образом, дедушкин подарок из Японии, с войны, коснулся и меня своим розовым легким крылом!
Василий Ильич Мордаев, старший сын Ильи Алексеевича, так же прошел долгий путь по дорогам войн. Он был призван в армию в 1940 году, ему «посчастливилось» начать воевать еще в так называемую Финскую войну.
Выписка из первого наградного листа Мордаева Василия Ильча:
«Наградной лист от 30 июля 1944 г.
Мордаев Василий Ильич, 1919 года рождения, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 44-ой Гвардейской пушечной артиллерийской Одесской бригады.
В Красной армии – с января 1940 г.
В Отечественной войне – с июня 1941 г.
Ранение – май 1944 г.
Краткое изложение личного боевого подвига.
Тов. Мордаев работал в должности командира отделения разведки с августа 1942 г. Показал себя как смелый, энергичный командир-разведчик. Находясь на передовом наблюдательном пункте в р-не с.Дороцкое под непрерывным минометным и артиллерийским огнем противника, в течение мая – июня месяца обнаружил: 3 минометных батареи, 2 наблюдательных пункта, 3 ДЗОТа и 7 огневых точек. В мае месяце т.Мордаев был ранен, но не оставил поля боя, продолжал вести разведку.
В результате повседневной работы с личным составом отделение В.Мордаева показало отличную боевую подготовку.
За мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками, за самоотверженное выполнение боевой задачи, несмотря на ранение, т. Мордаев достоин награждения медалью «За Отвагу».
Выписка из второго наградного листа Мордаева Василия Ильича:
«Наградной лист от 7 мая 1945 г.
Мордаев Василий Ильич, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 1-го дивизиона 44-ой Гвардейской пушечной артиллерийской Одесской Краснознаменной бригады.
Представляется к награждению Орденом Красной Звезды.
В период подготовки к прорыву обороны противника на р. Одер т. Мордаев с 5 по 15 апреля 1945 г. лично обнаружил 4 артбатареи, 3 минометных батареи противника и 5 пулеметных точек, которые частично огнем дивизиона были подавлены и уничтожены.
В боях за город Берлин т. Мордаев, находясь на наблюдательном пункте в боевых порядках пехоты, обнаружил 2 артиллерийские батареи противника, которые огнем дивизиона были подавлены.
За отличное выполнение боевых заданий командования т. Мордаев достоин представления к правительственной награде – Ордену Красной Звезды.»
Мордаев Петр Ильич, 1921 года рождения. В Красной Армии с 1941 г. Кандидат ВКП(б).
Выписка из первого (рукописного) наградного листа от 6 апреля 1944 г.:
«Радиотелефонный мастер, гвардии сержант Мордаев Петр Ильич 2 марта 1944 г. в р-не бывш. деревни Яково под обстрелом противника на переднем крае обороны исправлял рации и телефонные аппараты, вышедшие из строя, чем способствовал выполнению боевой задачи командования.
Награжден медалью «За Отвагу».
4-ая отдельная артиллерийская бригада. 1-й Белорусский фронт».
Выписка из второго наградного листа Мордаева Петра Ильича от 28 марта 1945 г.:
«Мордаев Петр Ильич, гвардии старший сержант, мастер радиотелефонной связи 277-го Гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского Красногвардейского полка за период боев с 14 января по 20 февраля 1945 г. самоотверженно работал по восстановлению выходящего из строя имущества связи, в короткий срок отремонтировал 3 радиостанции.
16 января 1945 г. в районе п.Старая Воля во время контратаки немцев по окружению тылов полка от находящихся в боевых порядках батарей производил ремонт радиостанций. Сам из ручного оружия уничтожил четырех солдат-немцев.
За проявленные при этом героизм, мужество и отвагу достоин правительственной награды – Ордена Красной Звезды».
Мордаев Константин Ильич, Костя, остряк и умница, самый младший из наших родственников-фронтовиков. В 1944 г. ему исполнился 21 год. Осенью того же года он получил тяжелое осколочное ранение в ноги. Обе ноги были изрезаны осколками так сильно, что стоял вопрос об ампутации обеих ног. Врачи пожалели молодого парня и сделали все возможное, чтобы одну ногу ему все-таки сохранить. Другую ногу пришлось ампутировать до тазобедренного сустава. Если бы фронтовые хирурги не приложили всех усилий к тому, чтобы сохранить ногу, нашему дяде Косте пришлось бы всю жизнь сидеть на деревянной каталке и, чтобы передвигаться, приходилось бы отталкиваться от земли деревянными колодками. Но врачи совершили чудо. Константин приехал домой на костылях. Так, на двух костылях, он и прожил всю свою долгую жизнь.
Выписка из наградного листа Мордаева Константина Ильича:
«Мордаев Константин Ильич, 1923 года рождения, член ВКП(б), младший сержант, санитар санитарной роты 909-го стрелкового полка 247-ой стрелковой дивизии.
Ранее награжден Орденом Славы 3-ей степени.
Представляется к награждению Орденом Красной Звезды.
В период наступательных боев от р.Висла до р.Одер т.Мордаев проявил отвагу и мужество. Не считаясь с жизнью, вынес с поля боя из-под огня противника 35 раненых бойцов и офицеров, оказал им первую помощь под огнем противника и эвакуировал их в тыл. На левом берегу р.Одер при расширении плацдарма вынес из-под огня противника 26 раненых бойцов и офицеров с их оружием, оказал им первую помощь и эвакуировал их в тыл.
Достоин правительственной награды – Ордена Красной Звезды».
Михаилу Ломакову, двоюродному брату молодых Мордаевых, сыну Анны Алексеевны Ломаковой, урожденной Мордаевой, пришлось хлебнуть ужасов войны, возможно, даже поболее, чем братьям. Его призвали в армию в 1939 году. Он служил во флоте, на Балтике, принимал участие в Финской войне. В 1941 году, вскоре после начала Великой Отечественной войны, попал в плен к немцам. Сколько времени Михаил провел в плену, как ему удалось бежать – этого я не знаю, этого никто детям не рассказывал. Рассказывали только, что в плену ему пришлось пережить имитацию смертной казни через повешение. Он уже стоял под виселицей, и на его шею была накинута петля. С тех пор и до конца жизни Михаил не мог переносить ничьих прикосновений к его шее. После войны он женился, у него была хорошая жена Маша, выросли две дочки. И жена, и девочки знали, что обнимать отца за шею ни в коем случае нельзя, даже если хочешь выразить ему свою любовь. Он предупреждал, что его реакция может быть непредсказуемой.
Михаил был человеком высокого роста, имел богатырское телосложение, обладал огромной физической силой и бурным темпераментом. Разумеется, его смирной и терпеливой жене Маше временами было нелегко справиться с его буйным нравом. Когда ей необходимо было пожаловаться кому-нибудь на свою непростую жизнь, поплакать, она приезжала туда же, куда и все – на 2-ую Прогонную улицу, к тете Кате Смолиной. Они сидели вдвоем с Екатериной Алексеевной, пили чай, Маша плакала, утирала слезы платочком. Потом уезжала, успокоенная и ободренная.
Михаил был далек от какой-либо сентиментальности, но семью свою любил и о ней заботился. Дочки Михаила и Маши были примерно того же возраста, что и я. Мне запомнилось, что дядя Миша всегда беспокоился о том, чтобы его девочки в зимние каникулы обязательно ходили на хорошие детские новогодние праздники, так называемые «елки», и получали там вкусные подарки с мандаринами и шоколадными конфетами. При случае он всегда спрашивал моих родителей: не надо ли и мне, их дочке, достать билет на хорошую елку? Видимо, считал, что это очень важно для детской жизни. Но у нас в семье с «елками» всегда был порядок.
В 50-60-х годах, когда послевоенная жизнь уже понемногу наладилась, наши родственники-фронтовики – мой отец, братья Мордаевы, братья Ломаковы, зять Мордаевых Борис Каленик, муж Нины – не имели возможности часто встречаться друг с другом. Жили в разных городах, работали, каждый занимался своими делами. Но когда им удавалось встретиться, поговорить, посидеть за одним столом – как они радовались этим встречам, как радовались друг другу! Все они были примерно одного возраста, все прошли горнило войны в ранней молодости: годы на фронте, жестокие бои с врагом, ранения, близость смерти. Но несмотря ни на что, они выжили, не просто дожили до победы, они завоевали Победу! И при редких семейных встречах каждый знал, что – вот они, мои друзья, мои родные! Они такие же, как я, и я такой же, как они, мы живы, мы веселы, вокруг хлопочут наши жены, бегают наши дети, и дело наше правое, и Победа всегда будет за нами!
Но этому счастливому времени предшествовали трудные послевоенные годы, когда вчерашним фронтовикам необходимо было начинать с нуля строить свою мирную жизнь.
Глава 48. ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Фронтовики возвращались с войны. Их сопровождали облака крепкого аромата махорки, перемешанного со специфическим запахом ваксы, которой солдаты до блеска надраивали свои сапоги.
Счастливы были те, кого дома ждали матери, жены с детишками.
Братья Мордаевы, ушедшие на войну юношами, едва успев закончить средние учебные заведения, должны были думать, как строить свою жизнь дальше. Каждый из них, демобилизовавшись, прежде всего, направлялся в Москву, на 2-ую Прогонную улицу, к Смолиным, к своей тете Кате. Смолины принимали племянников как собственных детей.
Костя Мордаев без ноги, на костылях, приехал с фронта первым. Погостил немного в Москве, поговорил с Екатериной Алексеевной, с Иваном Васильевичем. Они, как могли, утешили и приободрили его, убедили в том, что он молодой, умный, красивый и самое главное – живой! Не следует унывать, вся жизнь впереди. Костя поехал дальше, домой, в Едимоново. Спустя какое-то время ему удалось найти применение своим способностям в городе Калинине (ныне – Тверь). Он стал работать, женился на хорошей женщине по имени Тамара, постарался заменить отца ее маленькому сыну. Тамара, профессиональный повар, работала в ресторане знаменитого Калининского речного порта, была яркой, веселой, энергичной женщиной. Позже, в задушевных женских беседах, родственницы не раз спрашивали ее: как это она решилась выйти замуж за безногого? Ведь наверняка были у нее и другие, физически здоровые поклонники. Она отвечала: да, были и другие, но Костя отличался от всех тем, что был очень добрым и культурным, много читал, умел интересно рассказывать, ей с ним было интересно, поэтому она выбрала его. Константин и Тамара прожили вместе всю жизнь.
Дядя Костя пользовался большим уважением не только в своей семье. Соседи по деревне, близкие и дальние родственники, ровесники и люди старшего поколения – его ценили и уважали все, кому доводилось с ним общаться. Он интересовался очень многими вещами, много знал, умел одинаково хорошо разговаривать с совершенно разными людьми – с деревенскими мужиками, с образованными «инженерами», со стариками, с детьми. Обладал прекрасным чувством юмора. В общении с ним люди забывали, что он инвалид. Знали, что если он сможет чем-то помочь – обязательно поможет.
Он умер в 1977 году. Дорога от дома до кладбища полегала через всю деревню. Гроб несли по улице вдоль домов. Из каждого дома хозяева выносили лавки, ставили перед домом у калитки, чтобы можно было на несколько минут поставить гроб на лавку. Таким образом, люди прощались с Костей, отдавали ему последнюю дань уважения.
Но в первые послевоенные годы молодые люди – вчерашние фронтовики – не думали о грустном. Думали о том, как строить свою будущую мирную счастливую жизнь.
Василий после демобилизации так же приехал в Москву. Он имел право прописаться и жить в квартире у Смолиных, поскольку до войны он жил в Москве и призывался в армию как житель Москвы. Жилплощадь семейства Смолиных, как и прежде, состояла из двух небольших комнат в коммунальной квартире. Глава семьи Иван Васильевич уже серьезно болел. Екатерина Алексеевна продолжала работать, ухаживала за мужем и делала все дела, которые требуется делать хозяйке, чтобы в доме был порядок. Анечка училась на пятом курсе института, готовилась защищать диплом. Тут же, в семье Смолиных, в течение нескольких лет жила младшая сестра Василия, Нина Мордаева, она училась в техникуме. Василий понял, что здесь ему устраиваться на жительство просто негде, не стал предъявлять свои права на жилплощадь и вскоре уехал жить в Ленинград.
Петя Мордаев, демобилизовавшись из армии, тоже приехал в Москву. Некоторое время ему пришлось пожить у Смолиных на раскладушке. Но у него были конкретные планы, и ему довольно быстро удалось их осуществить. Перед войной Петр начал учиться в московском техникуме. После войны он хотел найти работу и продолжить учебу без отрыва от производства. Так все и произошло. Он стал работать, учиться, получил место в общежитии.
По выходным и праздникам Петя часто приезжал к Смолиным как в свою семью. Его любили, ему все были рады. Екатерина Алексеевна, тетя Катя, старалась его получше покормить, понимала, что племянник, живя в общежитии, питается не лучшим образом. Иван Васильевич с удовольствием беседовал с умным и рассудительным молодым человеком. Веселые сестрички, Анечка и Нина, шутили с ним, смеялись, просили их фотографировать и сами фотографировались вместе с ним. Да, ведь у Пети был немецкий трофейный фотоаппарат! На фотографиях, сделанных Петей в те годы, мы сейчас можем видеть, какими они все были тогда: усталые, очень усталые взрослые, круглолицые девушки с веселыми глазами и сам большеглазый, задумчивый Петя…
Все трое старших братьев Мордаевых в течение нескольких лет после войны женились, создали семьи, вырастили детей. Ни у одного из них жизнь не была легкой и гладкой, но каждый до смертного часа оставался верным своей семье.
Единственная сестра братьев Мордаевых, красавица Нина, закончила техникум в Москве и уехала по распределению работать в Харьков. Там в нее без памяти влюбился молодой офицер, фронтовик, Борис Николаевич Каленик. Они поженились. Нина с готовностью приняла на себя все нелегкие обязанности офицерской жены, родила двоих сыновей, Володю и Виталика. Семья жила в Молдавии. В связи со службой Бориса Николаевича семейству Калеников приходилось часто менять места жительства, переезжать со скарбом и двумя детьми из одного города в другой. Летние отпуска семья проводила в Едимонове, у родителей Нины. В Едимоново ехали через Москву, на несколько дней непременно останавливались у Смолиных. Жизнь была полна хлопот.
Виктор, самый младший сын Ильи Алексеевича и Анны Ивановны Мордаевых, во время войны был подростком. Когда ему пришло время идти в армию, его взяли во флот и определили служить матросом на подводную лодку. В те годы срочная служба в сухопутных войсках длилась три года, во флоте – пять лет. Войны уже не было, всем хотелось верить в то, что военным кораблям и подводным лодкам не придется участвовать в морских сражениях. Была надежда на то, что морская служба в мирное время не опасна. Но – пять лет! Это не год и даже не три года. Особенно если представить себе, какими в техническом отношении были подводные лодки 60 – 70 лет назад, можно предположить, что Виктору достался один из самых тяжелых и опасных вариантов несения военной службы. Родители прекрасно понимали это и очень переживали за него в течение всех пяти лет. Мать потихоньку молилась. И Бог миловал! Когда пришел срок, Витя вернулся домой живым и здоровым. Правда, его темно-русые волосы к этому времени были уже наполовину седыми, но глаза по-прежнему сияли чистой мордаевской синевой.
Таким образом, мужчины семейства Мордаевых, отец и четыре сына, честно отслужили Родине как настоящие воины. Не прятались, не старались избежать солдатской доли. С открытым сердцем принимали свою судьбу. Каждый выполнил свой долг. И жизнь продолжалась.
Виктор после армии поехал в Москву, «под крыло» к брату Петру. Петр работал в Летно-испытательном институте (ЛИИ) в городе Жуковском. Он помог младшему брату поступить в техникум и устроиться на работу в тот же институт.
Виктор тоже женился, детей у него не было. Он часто приезжал к родителям в Едимоново, помогал отцу по хозяйству. Он был необыкновенно добрым и мягким человеком, его обожали собаки и он их тоже очень любил, играл с ними, говорил, что все собаки ему улыбаются. Виктор погиб трагически, в результате случайного стечения обстоятельств, в возрасте 45 лет.
Семья Ивана Васильевича и Екатерины Алексеевны Смолиных в послевоенные годы продолжала жить своей обычной жизнью. Несмотря на то, что Иван Васильевич уже тяжело болел, в доме всегда были люди, всегда происходило какое-то движение. Часто и во множестве приезжали родственники, почти ежедневно заходили старшие дочери, Тоня и Ираида, с мужьями и детьми. Старшие внучки, дочери Ираиды Клавдия и Александра, стали совсем взрослыми барышнями. Клавдия закончила техникум, получила профессию специалиста-меховщика, ее взяли на работу в ГУМ, в отдел шуб и меховых изделий, она стала совсем самостоятельным человеком и вышла замуж в 20 лет.
Весной 1947 года большая семья пополнилась сразу тремя младенцами. 23 мая Ираида родила младшего сына Евгения, 25 мая у Тони родилась дочка Татьяна. Клавдия решила не отставать от матери и тетки и через неделю, 1 июня, родила дочку Наташу. В один из дней все они, предварительно договорившись, устроили «парад» младенцев: принесли троих своих новорожденных деток в дом к Смолиным, положили их в рядок на одну большую кровать и сказали: вот вам, пожалуйста, новые члены семьи, знакомьтесь!
Глава 49. ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ
Анечка Смолина закончила учебу в Московском автомеханическом институте (МАМИ) в 1946 году. По распределению ей следовало ехать работать в Белоруссию, в Минск. Но оставить престарелых родителей в Москве одних она никак не могла. В те времена отказаться от работы по распределению было непросто. Пришлось собрать все документы о том, что родители потеряли сына убитым на войне, все справки о тяжелой болезни отца. И это возымело действие. Анечку освободили от обязанности ехать в Минск. Но тут уже встал другой вопрос – куда идти работать девушке, молодому инженеру, прямо со студенческой скамьи? На помощь пришел – кто бы вы думали? Родственник, один из многочисленных племянников Ивана Васильевича. Он устроил Анечку на авторемонтный завод, принадлежащий одному из союзных министерств. Казалось бы, молодой инженер, девушка, и вдруг – авторемонтный завод! Но Анечка с радостью согласилась и нисколько об этом не пожалела.
Завод был большой. В его цехах и конструкторском бюро работали люди разных возрастов и социальных групп. Были старые кадровые рабочие, были специалисты из тех, что учились еще в дореволюционные годы. Поскольку советский автопром в те годы выпускал сравнительно небольшое количество машин, на заводе ремонтировали автомобили преимущественно иностранного производства. Среди инженеров и конструкторов было немало немцев из числа пленных. Их привозили на завод специальным транспортом из общежития, в котором они жили на особом строгом режиме. Трудились на заводе и простые рабочие, бывшие фронтовики. Периодически приходили на практику ребята-ремесленники из авторемонтных училищ.
Анечке пришлось привыкать к тому, что на работе ее окружают преимущественно мужчины, и в их речи подчас проскакивают слова, не предназначенные для девичьих ушей. Но она не стеснялась, не изображала из себя «кисейную барышню», вела себя просто и достойно. Возможно, поэтому к ней все относились очень хорошо. Завидев ее поблизости, и старшие рабочие, и даже молодые ребята прикусывали языки, старались не употреблять грубых слов. Анечка проработала на заводе несколько лет, и впоследствии много раз говорила о том, что в эти годы приобрела совершенно новый опыт общения с людьми.
В этот же период времени Анечка вышла замуж за Сашу Натчука, сменила фамилию и стала Анечкой Натчук.
Ольга Лазовская, задушевная подруга Анечки, после защиты диплома устроилась работать в Научно-исследовательский институт машиноведения (ИМАШ). Директором ИМАШа в течение многих десятилетий был академик Академии наук СССР Анатолий Аркадьевич Благонравов. После смерти знаменитого ученого институту присвоили его имя. ИМАШ стал называться «Институт машиноведения им. А.А.Благонравова».
Проработав в институте несколько лет, осмотревшись и освоившись в коллективе, Ольга узнала, что руководитель одной из лабораторий, профессор Петр Ефимович Дьяченко, готов принять на работу молодого научного сотрудника. Инициативная девушка предложила на эту вакансию свою подругу, недавнюю выпускницу МАМИ, Анечку Натчук. Анечка пришла к Петру Ефимовичу, они познакомились, поговорили, и профессор Дьяченко принял молодого инженера в свою научную группу. Таким образом, Анечка стала Анной Ивановной, научным сотрудником Института машиноведения АН СССР.

