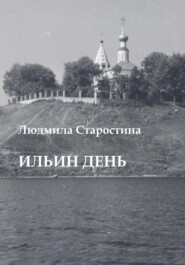 Полная версия
Полная версияИльин день
Руководитель лаборатории с первого дня знакомства называл всех своих сотрудников по имени и отчеству вне зависимости от возраста и занимаемой должности. Он не заставлял молодых коллег следовать его примеру, но они понимали, что если известный ученый, профессор считает нужным вести себя с ними именно так, то и они должны соответствовать высокому уровню взаимоуважения, заданному руководителем. Так и повелось. В числе сотрудников лаборатории были молодые мужчины, женщины разных возрастов. Атмосфера в коллективе была прекрасной. Женщины дружили между собой, нередко делились личными проблемами, в трудных ситуациях старались поддержать друг друга. Жизнь ни у кого не складывалась легко, каждой из них пришлось немало пережить практически на глазах у коллег. Казалось бы, при таких близких дружеских отношениях женщины могли бы уже называть одна другую просто по имени. Но – нет. Порядок, заведенный Петром Ефимовичем много лет назад, никогда не нарушался. Для сотрудников лаборатории профессора Дьяченко было совершенно естественно называть друг друга по имени-отчеству, и эта манера сохранялась в течение всех долгих лет, что они работали вместе, и позже, когда все они уже стали пенсионерками, но продолжали поддерживать дружеские отношения.
Профессор Дьяченко был необыкновенно интересным человеком. Он принадлежал к поколению ученых, выросших и выучившихся уже при советской власти. Петр Ефимович родился в Сибири, учился в Томском государственном университете, продолжил учебу в Москве, позже в составе группы молодых ученых был направлен на стажировку в Англию. Таким образом, опыт жизни и научной работы за границей он получил еще в довоенные годы.
Спектр научных интересов профессора Дьяченко был чрезвычайно широк. И он прикладывал усилия к тому, чтобы кругозор его молодых сотрудников непрерывно расширялся. Это касалось далеко не только научных сфер. Например, в 1959 году, когда в Москве состоялся первый Московский международный кинофестиваль, Петр Ефимович решил, что его сотрудники непременно должны посмотреть как можно больше фильмов из тех, что привезли на фестиваль, это было в новинку, в те годы зарубежные фильмы крайне редко попадали на экраны советских кинотеатров. Для осуществления его замысла существовали два препятствия. Во-первых, фестивальные киносеансы проходили не только вечером, а в течение всего дня, т.е. в то время, когда обычные люди должны быть на работе. Во-вторых, зарплаты молодых ученых не позволяли им купить билеты, например, на пять-шесть фестивальных фильмов. Профессор Дьяченко нашел способ преодолеть оба препятствия. Он сам на свои деньги купил столько билетов, сколько смог, и отпускал своих сотрудников днем с работы в кино. Разумеется, молодые люди были безмерно благодарны своему руководителю за такой невероятный подарок, а он был очень доволен тем, что смог помочь своим ребятам немного приобщиться к современной мировой культуре.
Каждому из своих молодых коллег профессор Дьяченко ставил целью написать кандидатскую диссертацию, продумывал и обсуждал с ними возможные темы научных исследований. Были такие планы и у Анны Ивановны Натчук, руководитель лаборатории видел в ней большую склонность к научной работе. Но этим планам не суждено было сбыться. У Петра Ефимовича случился инфаркт, затем инсульт, он тяжело болел в течение нескольких лет и больше не смог вернуться к активной работе.
Глава 50. ДЕДУШКА-ГОЛУБЧИК
Своего родного дедушку, Ивана Васильевича Смолина, я в живых не застала, он умер незадолго до моего рождения. Пока была совсем маленькая, меня это не огорчало. Ну, нет дедушки – и нет, что же теперь делать? Вокруг всегда было много родственников, я всех любила, и ко мне все были добры и внимательны. Но в какой-то момент я почувствовала, что в моем сердце есть некое свободное место, предназначенное именно для дедушки, а дедушки-то и нет. Мне от этого было грустно.
На мое счастье, брат бабушки, Илья Алексеевич Мордаев, житель деревни Едимоново, часто приезжал к нам в Москву. Они с моей бабушкой, Екатериной Алексеевной, в течение всей жизни были очень близки друг другу, и для нашей семьи было совершенно естественно, что Илья Алексеевич частенько появлялся у нас в квартире, жил по нескольку дней. Мои родители, тетки, другие родственники называли его «дядя Илюша», имя звучало очень ласково, он и был таким, как его имя, добрым, ласковым, всегда готовым поговорить и пошутить с ребенком. Нередко приезжала и его жена Анна Ивановна, для нас – тетя Нюша. И мы, в свою очередь, каждое лето ездили в Едимоново, гостили у них в доме.
Илья Алексеевич всегда был очень внимательным, ласковым к детям. Мне очень захотелось, чтобы дядя Илюша стал моим дедушкой. Я спросила у своей мамы: можно мне называть его дедушкой? Она сказала: «А ты спроси его сама!». Я спросила, он согласился. Таким образом, я приобрела замечательного дедушку, а дед Илья получил еще одну внучку, собственно, я и была его внучкой, только не прямой, а двоюродной.
Моя бабушка, Екатерина Алексеевна, знала и помнила до старости очень много детских стихов, которые, вероятно, разучивали с детьми в школе в конце 19-го века. Пока я была дошкольницей, мы много времени проводили с бабушкой вдвоем, и она часто читала мне эти простенькие, но очень милые стихи, хорошо понятные детскому сердцу. Одно из стихотворений начиналось так:
«Дедушка-голубчик,
Сделай мне свисток!
Дедушка, найди мне
Беленький грибок!».
Далее шли еще несколько четверостиший, из которых было понятно, что деревенские ребята обращаются к какому-то старенькому, одиноко живущему дедушке со своими нехитрыми просьбами. Один из детей, в частности, просит поймать ему белку. Дедушка ласково всех выслушивает и всем обещает выполнить их просьбы:
«Погодите, детки,
Дайте только срок.
Будет вам и белка,
Будет и свисток!»
Я была уверена, что наш дедушка Илья – точно такой же добрый «дедушка-голубчик», как тот, про которого написаны стихи.
Илья Алексеевич был человеком необыкновенно добрым, светлым и, я бы сказала, благорасположенным ко всем, особенно к детям. Он любил пошутить, поиграть с ребятишками, часто придумывал какие-то занятия, соревнования, загадывал хитрые старинные загадки, совсем не те, что мы знали по своим детским книжкам. Летом в их доме, в Едимонове, иногда одновременно гостили трое-четверо внуков, бывало и больше. Детей обычно сажали за стол отдельно от взрослых. 50-е годы были уже достаточно «сытыми» годами, в семьях детей кормили так, как надо, поэтому дети часто не отличались хорошим аппетитом, что называется, «плохо ели». Тем более что за столом, в компании братьев и сестричек, всегда был соблазн отвлечься от еды, поболтать, пошалить. А для мам и бабушек задача состояла в том, чтобы ребята побыстрее съели все, что положено, отправлялись дальше по своим делам и не мешали взрослым.
Дедушка Илья, видимо, с удовольствием смотрел на веселую компанию ребятишек, сидящих за столом, и все время придумывал какие-то игры, призы для тех, кто быстрее всех съест суп или кашу. В это время младший сын дедушки Ильи, наш общий дядя Витя, служил во флоте. Фотография дяди Вити в матросской форме стояла на видном месте, и все очень гордились тем, что в нашей семье есть такой красавец-моряк. В доме имелись столовые ложки, на ручках которых был рисунок, напоминающий ленточки на матросской бескозырке. Дедушка Илья объявил детям, что это специальные матросские ложки, и тот из ребят, кто сегодня справится с супом или кашей быстрее всех, завтра будет есть суп матросской ложкой. Разумеется, каждому хотелось заслужить право есть именно матросской ложкой, и сегодняшние, не-матросские ложки быстро-быстро мелькали над тарелками с недоеденным супом. Дедушка был очень доволен. И таких примеров можно было бы привести множество.
Илья Алексеевич работал сельским почтальоном. Три раза в неделю он ездил в большое село Юрьево-Девичье, где находилось ближайшее почтовое отделение, «за почтой» и забирал там почтовые отправления, предназначенные для жителей Едимонова. Вернувшись домой, он тщательно разбирал привезенную «почту» и потом разносил письма, газеты, журналы по адресатам. Для поездок «за почтой» у дедушки была специальная, видимо, старинная коляска на двух высоких деревянных колесах – двуколка. Верхняя «пассажирская» часть двуколки представляла собой что-то вроде широкого диванчика, на котором могли удобно разместиться два седока. В те дни, когда нужно было ехать «за почтой», Илье Алексеевичу выделяли колхозную лошадь. Рано-рано утром он обычно шел за лошадью, ловко и быстро впрягал ее в свою коляску, брал в руки вожжи и отправлялся в путь. Дорога в Юрьево-Девичье была все той же лесной дорогой, по которой много десятков лет назад мчался свадебный кортеж князя Голицина, а отец Ильи Алексеевича, тогда еще неженатый Алексей Мордаев, принимал участие в устройстве праздничной иллюминации в окрестном лесу.
К чему я вспомнила про дорогу в Юрьево-Девичье? К тому, что нам, внукам иногда выпадало счастье проехать с дедушкой по этой дороге в двуколке ранним росистым утром. В почтальонской двуколке было два (два!) места для седоков. Следовательно, теоретически почтальон мог взять с собой в поездку одного «пассажира». Даже в самую благоприятную, летнюю погоду для дедушки эти поездки были работой, а не развлечением: 10 километров в одну сторону и столько же обратно, на деревянных тележных колесах, по жаре, сквозь тучи комаров, злых слепней и оводов. Какое уж тут развлечение? И брать с собой в дорогу ребенка – это лишняя морока. Но иногда он все-таки уступал уговорам и соглашался взять одного из внуков. Но такая поездка не давалась просто так. Ее надо было заслужить! Это, главным образом, касалось мальчиков. Им ставились условия: слушаться старших, не грубить, не драться, не уходить из дому без спросу на целый день неизвестно куда и т.д. И если все условия выполнялись, день проходил без неприятностей, счастливый внук получал возможность завтра ехать с дедушкой за почтой. Это была гордость, это было событие в жизни! Младшие могли только тихо завидовать и надеяться, что «может быть… когда-нибудь… и я тоже поеду!».
Дедушка Илья любил есть деревянной ложкой и очень хотел научить нас, детей, есть настоящими деревянными ложками. Наверное, он полагал, что это полезное умение. Кто знает, может быть, когда-нибудь и пригодится в жизни. А кто научит, если не дедушка? Хохломские деревянные ложки, которые имелись в хозяйстве у его жены Анны Ивановны, были не новые, служили семейству много лет. Лак и краска с них пообтерлись, и ложки имели не слишком привлекательный вид. Потертой деревянной ложкой ребенка не заинтересуешь. И дедушка решил купить каждому из внуков по новой деревянной ложке. Когда новые золотые хохломские ложки перед обедом были разложены на столе, каждому захотелось схватить такую ложку и тут же начать ею как-то – обладать. Чтобы избежать споров типа: «Это моя! Нет, это моя!», дедушка ножичком сделал на каждой ложке по нескольку зарубочек. И каждый знал: с одной зарубочкой – моя ложка, с двумя зарубочками – ложка Володи, и т.д. Мы старательно учились есть деревянными ложками, но получалось не слишком хорошо. Идея скоро себя изжила, но мы все равно гордились: каждый знал, что у него есть своя собственная деревянная ложка.
Глава 51. ИЛЬИН ДЕНЬ
Илью Алексеевича Мордаева, брата моей бабушки, по праву можно считать одной из центральных фигур в истории нашей большой семьи. Илья Алексеевич и его жена Анна Ивановна на протяжении многих лет терпеливо и бескорыстно принимали в своем доме в Едимонове огромное количество родственников. Благодаря им все наши многочисленные родные воспринимали Едимоново как своего рода центр, «столицу» нашей семьи. Хотя, наверное, в данном случае было бы правильнее употребить вместо слова «семья» более масштабное слово «род».
Начало традиции Мордаевых радушно принимать всех родных в Едимонове, очевидно, было положено еще Алексеем Яковлевичем и Евдокией Павловной в начале 20-го века (вспомните, например, визиты старика Матвева). Заслуга Ильи Алексеевича и Анны Ивановны состояла в том, что, став хозяевами в доме, они не прервали традиции, не отказались принимать у себя множество родственников, которым хотелось побывать в родных местах, а также их жен, мужей, детей, племянников, внуков, сватов и т.д. Я думаю, мы не можем даже представить, каких трудов, каких хлопот стоило это все хозяйке дома Анне Ивановне. Тем не менее, мне ни разу не приходилось слышать даже намека на то, что она когда-либо возражала против такого многолюдства в ее доме. Именно благодаря тому, что она и ее муж Илья Алексеевич не жалели сил, очевидно, мы все, дети, внуки, внучатые племянники и правнуки стариков Мордаевых, имели возможность изведать редкое счастье – знать и любить всех своих родных и чувствовать себя частью большой и доброй семьи.
В селе Едимонове испокон века главным праздником лета (а, может быть, и всего года!) был Ильин день – 2 августа, называемый в народе «Илья-пророк».
Еще в 19-ом веке знаменитый русский драматург и писатель А.Н.Островский в своих путевых заметках «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода», в главе, посвященной Тверской губернии, отметил особое значение этого праздника для жителей сел, расположенных по берегам Волги:
«Из обычаев, о которых я имел известия от почтенного священника, отца Василия, замечательно уважение тамошних и окрестных жителей к Ильину дню. Начиная от Троицына до Ильина дня не работают по пятницам, и пятницы называют Ильинскими. Далее по берегам Волги всю неделю перед Ильиным днем постятся и называют это Ильинским постом». (См. А.Н.Островский. Полное собрание сочинений в 12 томах, том 10, стр. 339. М., «Искусство», 1978).
В Едимонове Ильин день широко праздновала вся деревня. Во всяком случае, так было до начала 70-х годов 20-го века. Во многих домах в этот день принимали гостей. Жители Едимонова навещали родственников и соседей, ходили из одного дома в другой. Ко многим приезжали гости из Твери, Конакова, Москвы, Ленинграда. В этот день никто не работал, все гуляли, вечером по деревне играли гармошки. Одним словом, был настоящий всенародный праздник. Стоит ли говорить о том, что в доме Мордаевых, где главой семьи был Илья Алексеевич, Ильин день праздновали с особым размахом?
Четыре сына Мордаевых и дочь Нина, все, как правило, с чадами и домочадцами, старались непременно побывать в Едимонове на Ильин день, 2 августа. Подгадывали сроки отпусков, если не получалось с отпуском, брали несколько дней на работе, как это называлось, «за свой счет»: так сильно людям хотелось повидаться друг другом, со всеми родными, ощутить себя частью большой семьи.
Старший сын Василий с женой и дочкой приезжал из Ленинграда. Каленики, Борис и Нина, с двумя сыновьями, прибывали из Молдавии. Непременно присутствовали на празднике Константин с женой и приемным сыном Сашей. Константин проводил в деревне почти все лето, а его жена жила недалеко, в Твери, и бывала в Едимонове чаще, чем другие. Из Москвы приезжали Петр с двумя дочками и Виктор с женой.
Нашу семью – мою бабушку Екатерину Алексеевну, моих родителей и меня – также всегда принимали как самых близких родных. Из села Видогощи, расположенного в 10 километрах от Едимонова, приезжала младшая сестра Ильи Алексеевича, Мария Алексеевна Комарова (урожденная Мордаева).
Средняя сестра Ильи Алексеевича Анна Алексеевна Ломакова (Нюша) жила со своей семьей тоже в Едимонове, их дом находился недалеко от усадьбы Мордаевых. Ее сыновья, Михаил и Николай, да и она сама, так же непременно приходили на празднование именин Ильи Алексеевича.
Таким образом, в Ильин день в доме Мордаевых собирались три поколения большого семейства. Старшие: Илья Алексеевич с женой и три его сестры – Екатерина, Анна и Мария. Их дети – сыновья, племянники и племянницы с мужьями, и внуки числом до восьми человек.
Интересно, что старшие члены семьи почти никогда не обращались друг к другу по имени. Между ними, видимо, с давних пор было принято обращение: «брат» и «сестрица». Понятно, что Илью Алексеевича сестры называли «брат», даже когда говорили о нем в его отсутствие: «поехать к брату», «спросить у брата» и т.д.
Между собой четыре пожилых женщины – три сестры и их невестка Анна Ивановна – называли друг друга «сестрицами». В разговорной речи, где принято при обращении как бы «съедать» последний звук, это звучало примерно так: «Сестриц, с чем пироги-то будем печь?». Или: «Сестриц, ребятам что будем давать – молоко или простоквашу?». Когда эти женщины, наши общие бабушки, вчетвером на кухне, у печки, не торопясь, готовили еду на всю компанию, негромко разговаривали о детях, внуках, в воздухе все время летало ласковое слово: «сестрица, сестрица». Мне хотелось сесть в уголок, сидеть и слушать эти слова, как старинную волшебную сказку.
Дом Мордаевых был сравнительно небольшой, в нем трудно было с удобствами разместить на ночлег такое множество гостей. Кроватей, разумеется, на всех не хватало. Кому-то приходилось спать в маленькой горнице, кому-то – в избе на полу, на сенных матрацах. Кто помоложе – отправлялись спать на сеновалы. Детей иногда укладывали на больших сундуках. Два старших внука-подростка, Володя и Саша, частенько спали на улице, во дворе, в телеге, под открытым небом. На дне телеги лежал слой сена, дедушка давал мальчикам пару настоящих овчинных тулупов, они заворачивались в тулупы, вдыхали запах свежего сена, и крепко засыпали при свете ярких августовских звезд.
Праздновали «с размахом» – вовсе не означало, что специально звали гостей, накрывали богатые столы, устраивали какие-то необыкновенные развлечения. Застолья, разумеется, были. Во-первых, всем хотелось как следует поздравить именинника, сказать ему теплые слова за столом, как это принято у русских людей. Во-вторых, как без общего стола накормить так много гостей? Никак. Поэтому без общего застолья было не обойтись. Но главными составляющими праздника были не застолья.
Настоящий праздник складывался сам собой. Накануне, 31 июля или 1 августа, как правило, во второй половине дня, съезжались родные. Все везли с собой какие-то продукты: что-то – на праздничный стол, что-то – старикам-родителям в запас. Женщины начинали понемногу готовить еду с расчетом на всех прибывших. Хозяйка дома Анна Ивановна ставила тесто с тем, чтобы завтра рано утром печь пироги и ватрушки на всю компанию. В доме уже поднималась веселая суета, потому что все давно не виделись друг с другом, рассказывали новости, шутили, смеялись.
Мужчины, немного побалагурив с женщинами, отправлялись на Волгу. Берег Волги, волжский простор – вот что было главной составляющей праздника. Кромка воды, маленький песчаный пляж находились в ста метрах от дома. Выйдя за калитку, надо было пройти несколько минут лугом, по узенькой протоптанной тропинке – и ты уже у воды. Ноги твои погружаются в теплый песок, еще два шага – и прохладная вода мелкими волнами ласкает твои ступни, лодыжки, под ногами – твердое чистое песчаное дно, как будто специально украшенное рисунком, повторяющим движение волн. И ты понимаешь, что это – мгновения счастья!
Здесь же, на берегу, на песке и на травке, поджидала взрослых детвора. И начинались купание, ныряние, брызги, восторженный детский визг… Главное, что вокруг все были свои, родные – отцы, дядья, дочки, племянники. Неизвестно, кто веселился больше – дети или взрослые.
Поразительное и счастливое обстоятельство состояло в том, что всегда в последние дни июля и в первые дни августа в этих местах стояла прекрасная погода. Ярко светило солнце, было жарко, как в самый разгар лета. Вода в Волге была еще необыкновенно тепла. Через несколько суток погода резко менялась, но эти волшебные дни, эти теплейшие, тихие вечера были как последний щедрый подарок уходящего лета. И люди наслаждались подарком природы и подарком судьбы: это ли не подарок судьбы – быть частью такой семьи?
Еще одной составляющей праздника под названием «Ильин день» были лодки. Тут же, на песчаном пляже, у маленького причала, всегда стояли две или три лодки. Дедушкин старый смоленый ялик и две лодки, принадлежащих дяде Косте. Одна тяжелая, металлическая, типа «казанки». Другая поменьше, полегче, но тоже предназначенная для езды с лодочным мотором. Та, что поменьше, называлась «Колибри».
Дядя Костя проводил в Едимонове почти все лето. Ему трудно было ходить на костылях, но его острый, активный ум не хотел смириться с тем, что придется всю жизнь сидеть дома. И он нашел для себя такой способ существования: всегда на воде, в лодке, в руках – ручка лодочного мотора. В деревне, где лодка – главное транспортное средство, это дало ему возможность вести достаточно активный образ жизни.
Ведение лодочного хозяйства требует немало физического труда. Самое элементарное: утром отнести весла из дома на берег, вечером принести обратно. То же самое с лодочным мотором: утром отвезти мотор на тележке на берег, снять его с тележки, донести до лодки, прочно закрепить на корме. Вечером – обратный процесс. Вместе с мотором на тележку обязательно грузили запасной бак с бензином и резервную канистру.
Разумеется, дяде Косте одному, на костылях, делать все это было не под силу. Когда в доме Мордаевых не было никого из гостей, ему помогал дедушка. В разгар лета, когда в доме родителей, сменяя друг друга, всегда бывали родственники – братья, внуки, племянники и племянницы, помогать дяде Косте все считали святой обязанностью. Мальчики с восторгом принимали на себя роль «матросов», бегали с веслами, возили тележку, таскали моторы и канистры. Девочек тоже не держали в стороне от такой работы. Девочки, конечно, моторов не таскали, но если в чем-то было нужно помочь дяде Косте, все делалось бегом и без лишних разговоров. При этом никто никого не заставлял, помогать взрослым было совершенно естественно, и отказываться было бы стыдно.
Когда «корабли» были должным образом оснащены, и «капитан» дядя Костя восседал на своем месте, в лодке, между «матросами» начинались споры: кто поедет с дядей Костей на «казанке» куда-то по делам, а кто поплывет на маленькой лодочке, на веслах, например, к ближайшему островку за кувшинками. Дядя Костя решал разногласия быстро. Если ему нужны были помощники, старшие мальчики ехали с ним. Младшие оставались на берегу – купаться, загорать, учиться грести на веслах. Тем, кто оставался на травке, на маленьком песчаном пляже, он говорил: «Не расстраивайтесь! Мы скоро вернемся, и тогда я вас всех покатаю!». Так оно и бывало. Дядя Костя не жалел бензина, катал всю детвору с ветерком вдоль Волги и сам получал от этого большое удовольствие.
Во второй половине дня, когда жара немного спадала, ветер затихал и теплый воздух был особенно мягок, на берег приходили наши родители, папы и мамы. Все купались, все катались на лодках, все были веселы и спокойны в кругу своей семьи. Вместе со всеми любил посидеть на берегу и дедушка Илья Алексеевич. Он курил крепкий табачок, с удовольствием слушал, о чем говорят молодые мужчины и женщины, сам не стремился влезть в разговор, больше слушал, иногда только неожиданно и очень остроумно шутил, все смеялись, и он смеялся вместе со всеми.
На следующий день после праздника все были настроены сделать что-нибудь полезное для хозяев дома. Если к Ильину дню сено, накошенное дедушкой на зиму корове, еще не было должным образом высушено и убрано, Илья Алексеевич прямо говорил гостям: надо идти сено сушить. И вся компания за исключением старшего поколения – мужчины, женщины, дети – рано утром отправлялась в поле. Дедушка каждому давал деревянные грабли. У него было припасено даже несколько штук детских граблей, они были поуже, чем обычные, и черенки их были покороче.
Если сено сушить не требовалось, с вечера строились планы рано утром идти за грибами. Женщины просыпались часов в шесть, наскоро готовили завтрак, будили мужчин и детей. Все одевались так, как нужно для лесного похода: обязательно резиновые сапоги, длинные штаны, легкие рубахи или куртки с длинными рукавами. На головы – шляпы или кепки. Женщины плотно обвязывали головы легкими светлыми платками. Такая экипировка была необходима, поскольку в лесу водились змеи, было полно комаров и злых слепней. Оденешься не так, как нужно, не сможешь ходить по лесу – закусают так, что света не взвидишь. Тут уже не до красоты – было бы удобно, безопасно и не жарко.
Илья Алексеевич всем помогал собираться в лес. У кого-то нет резиновых сапог – дедушка найдет свои заслуженные, кирзовые. Нет легкой рубахи, которую не жалко, – Илья Алексеевич и тут поможет, даст свою чистую, много раз стиранную. Кому-то не хватило корзинки – дедушка даст ведерко, «ведрушку». Было в ходу такое слово – «ведрушка», так называли небольшие, не стандартные ведра.
Всем хотелось собрать грибов как можно больше. Вблизи села много грибов не соберешь, поэтому нужно было отправляться в дальние леса, минимум за пять километров от деревни. А зачем идти пять километров пешком, если есть дядя Костя с лодкой? Пока все завтракали и собирались, дядя Костя тоже вставал, одевался, мужчины брали весла, грузили на тележку лодочный мотор, по высокой росистой траве шли к воде. За ними спешили женщины с корзинками и ведрами, торопили детей, чтобы не отставали и не задерживали всю экспедицию.

