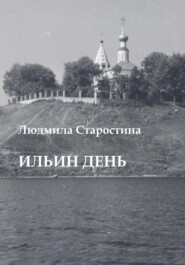 Полная версия
Полная версияИльин день
Первые годы самостоятельной семейной жизни, прожитые в доме свекора, вероятно, были самыми тяжелыми для молодой женщины, тяжелыми с точки зрения внутреннего душевного состояния. Работы она не боялась, и обиходить троих детей для нее, наверное, не составляло слишком большой проблемы. Но наступила полоса бед. Самостоятельная жизнь началась с трагедии. Катя родила своего первого ребенка – дочку.
Трудно описать, как бабушка в принципе относилась к детям. Сказать, что она любила детей – значит, не сказать ничего. Я думаю, что в душе она считала всех детей кем-то вроде ангелов, восхищалась их чистотой и нежностью и полагала своим святым долгом их защищать от всего, что могло представлять для них, ангелов, хоть какую-то опасность. Видимо, в ее многотрудной жизни было очень мало источников радости, а дети для доброй и сердечной женщины – всегда радость, всегда чудо. Будучи человеком сурового и строгого воспитания, она не говорила лишних слов, не расточала ласк, но всегда, когда требовалось, бросалась на помощь ребенку страстно и безоглядно. Можно представить, какую бурю чувств вызвало в молодой женщине рождение первенца.
В те же дни вторая невестка Смолиных, Анна, живущая в другой половине дома, тоже родила ребенка – мальчика. Отношения между молодыми женщинами в тот момент, вероятно, были еще вполне нормальными, или их на время сблизили общая радость, общие интересы. Так или иначе, Катя была счастлива, атмосфера в доме была радостной и спокойной. Младенцы, мальчик и девочка, родившиеся примерно в одно и то же время, подрастали, им было уже почти по году. Бабушка рассказывала, что им во дворе на траве расстилали одеяла, они играли на одеялах, возились, ползали, а взрослые любовались ими.
В это лето в деревне среди детей началась эпидемия скарлатины. Приближался какой-то церковный праздник. Все собирались идти в церковь, стоять праздничную службу, причащаться и причащать детей. Причащаться – это значит получать из рук священника ложечку специального церковного вина. Подавая причастие, священник зачерпывает вино ложечкой и каждому, кто хочет получить причастие, подносит ложечку к губам. Таким образом, все, кто приходит на причастие, касаются губами одной и той же ложки. Понятно, что при этом весьма велика опасность распространения какой-либо инфекции. Для взрослого человека опасность заразиться, возможно, минимальна. Но в ситуации, когда известно, что в деревне ходит такая опасная болезнь, конечно, причащать здоровых детей не следовало. Кто-то и говорил об этом молодым матерям, но, как вспоминала бабушка, она подумала – не может быть, чтобы Бог допустил ребенку заразиться во время причастия. И обе женщины, Екатерина и Анна, понесли детей к причастию. Дети заразились скарлатиной, тут же заболели и через несколько дней оба младенца умерли.
Бабушка в разговорах со мной вспоминала эту историю всего один или два раза. Я была ребенком и приходила в ужас, когда представляла себе этих детишек, сначала весело играющих на травке, а потом вдруг умерших. Но помню, что когда бабушка начинала говорить об этом, она произносила несколько слов и замолкала, как будто начинала вспоминать и уже ничего не хотела говорить вслух, «уходила в себя» и потом, через несколько минут молчания, говорила со мной уже на совершенно другие темы. Думаю, что от этого первого страшного удара ей не удалось оправиться даже в старости. Кстати, это событие, очевидно, впервые серьезно пошатнуло ее веру в то, что Бог есть.
Глава 14. С РЕБЕНКОМ В БОЛЬНИЦЕ
В 1919 году у Екатерины родился второй ребенок – мальчик Костя. Наконец-то ее страстная душа обрела свой собственный, только ей принадлежащий объект любви, заботы и восхищения. Но и этот подарок судьбы дался ей не даром – мальчик родился с «заячьей губой». Это такой дефект в строении рта и носа, который в самом раннем возрасте обычно исправляют хирургическим путем, губку ребенка зашивают, и потом на ней остается всего лишь маленький шрамик. Это сейчас легко сказать, а каково было решить эту проблему в 20-е годы, в глухой деревне, молодой женщине, у которой кроме малыша на руках еще трое детей и большое хозяйство? Думаю, мы не можем себе представить, каких страданий стоило бабушке все это пережить и преодолеть. Но она сделала все, что требовалось.
Ребенок был совсем маленький, и чтобы сделать ему операцию, матери необходимо было лечь в больницу вместе с ним, чтобы кормить его и ухаживать за ним в процессе лечения. Медицинское учреждение, в котором лечили мальчика, находилось в Корчеве. Что представляла из себя больница в уездном городишке в первые послереволюционные годы, лучше не говорить. Но, тем не менее, даже в тех условиях врачи сделали для ребенка все, что требовалось. Губку зашили, все зажило так, как надо, младенца там не простудили, ничем не заразили. Проблема была решена своевременно, и о ней потом больше не вспоминали. Но иногда бабушка вскользь рассказывала, что в этой больнице ей, как и другим матерям, в течение нескольких дней, может быть, неделю, сколько требовалось для лечения ребенка, приходилось жить совершенно без всякой еды. Детям еще кое-какое питание полагалось, может быть, варили какую-нибудь кашу. Но для матерей не было предусмотрено ничего, время было голодное. Сельские жители сами перебивались кое-как. Но женщинам, которые находились в больнице с детьми, при том, что в деревнях у всех оставались семьи и дети, не приходилось ждать, что какую-то еду им принесут из дома. И персонал больницы, зная, что женщины голодают, мог предложить им только одно – картофельный крахмал, чтобы варить из него кисель. Разумеется, ни ягод, ни сахара для киселя взять было негде. И матери больных деток варили для себя кисель из крахмала и воды и ели его, и это помогало им продержаться столько дней, сколько было нужно, чтобы врачи могли вылечить их детей.
Глава 15. НЕКОМУ ЗАЩИТИТЬ
Начало 20-х годов, деревня Трясцино. У Екатерины – семья, четверо детей растут. Главный источник средств к существованию – крестьянское хозяйство.
К сожалению, никто сейчас об этом не вспоминает, но, очевидно, что в этот период времени – в начале 20-х годов – все-таки был осуществлен один из лозунгов Октябрьской революции – «земля – крестьянам». Крестьяне, действительно, получили в свое распоряжение большие участки земли и имели право хозяйствовать на ней так, как считали нужным. Такие участки земли назывались «наделы» (от слова «наделять»).
Моя будущая бабушка, молодая хозяйка Екатерина Алексеевна Смолина, видимо, чувствовала в себе уверенность и достаточно сил для того, чтобы эффективно использовать землю во благо своей большой семьи. Поэтому она взяла себе максимально возможный, большой земельный надел и начала хозяйствовать. Впоследствии она не раз говорила, что именно в этот период времени, когда каждая крестьянская семья имела возможность взять надел и использовать землю по своему усмотрению, крестьяне только и смогли пожить спокойно и благополучно, знали, что если хорошо поработают, то точно будут сыты.
Екатерина Алексеевна взялась за крестьянское хозяйство со всей своей страстью. И все бы могло быть хорошо, но сноха Анна Степановна, живущая на соседней половине дома, не давала житья. Она старалась навредить Екатерине везде, где только могла. Она рвала и резала белье, вывешенное во двор для просушки, причем старалась привести в негодность самые хорошие вещи – новые простыни, белье, рубашки, даже детскую одежду. Могла уже высушенное белье облить из ведра водой. Старалась сломать или спрятать какой-то хозяйственный инвентарь, чтобы тогда, когда Екатерине нужно было работать, необходимого инструмента не находилось.
У меня в памяти наиболее ярко отпечатался один случай из тех, о которых с болью и горечью рассказывала бабушка. Была поздняя осень, шли холодные дожди. В это время года все хозяйки думают о том, как они будут зимовать с детьми: достаточно ли тепло в доме, не будет ли задувать ветер в какие-нибудь невидимые щели, крепка ли крыша и т.д. Для Екатерины, которая жила практически одна с четырьмя детьми, все эти вопросы были важны, я думаю, до боли в сердце, поскольку, если бы что случилось – ей помощи ждать было не от кого. Так вот, сидит она как-то раз дома с детьми, на улице дождь, и вдруг видит, что с потолка в центре комнаты капает вода. Если прохудилась крыша – это трагедия, это значит, что в доме нельзя жить, его будет всегда заливать водой, его не просушишь и зимой не протопишь. А куда ей деваться с детьми? Она в ужасе лезет на чердак и видит, что в крыше над ее половиной дома кем-то специально проделана дыра, дождь льется на потолочное перекрытие, уже образовалась лужа и вода просачивается в комнату. Катя, как могла, собрала воду тряпками, а под отверстие в крыше поставила корыто, чтобы хотя бы в течение ночи вода собиралась в корыте и в комнату не лилась. Спустилась вниз в избу и стала думать: кого ей завтра звать на помощь, где брать материал для ремонта крыши? И вдруг вода с потолка хлынула ручьем. Екатерина опять побежала на чердак и в коридоре увидела, как с чердака на своей половине дома спускается сноха Анна. Поднявшись наверх, она поняла, что Анна специально забиралась на чердак проверить, достаточно ли хорошо льется вода на голову ненавистной Катьки, увидела корыто полное воды, тут же опрокинула его на потолок, а потом отодвинула корыто в самый дальний угол чердака.
Вот такие происходили истории. Честно говоря, я не представляю себе, как моя бедная бабушка могла терпеть все эти мучения. Что творилось в ее душе? Что она думала о людях, ее окружающих?
В той беде на помощь к ней пришли отец Алексей Яковлевич и брат Илья. Екатерина съездила в Едимоново, рассказала родным о своем несчастье, и они приехали на телеге, привезли кое-какого материала (досок, дранки) и помогли заделать дыры и в крыше, и в потолке. Алексей Яковлевич был уже старик, но еще крепкий характером, не мог допустить, чтобы его дочку злые люди обижали. А Илья – любимый брат, он для сестры никогда ничего не жалел, так же, как и она для него.
Сама сноха Анна Степановна в этот период времени жила «под крылом» свекра, имела на руках одного ребенка – сына Леню, который позже, во время войны, погиб на фронте.
Странно, но почему-то никто из мужчин, ни муж, ни свекор, ни другие родственники по линии мужа не пытались защитить Екатерину от злых козней снохи. Муж жил далеко, да и по характеру он был человек мирный, деликатный, никогда ни на кого не кричал, наверное, он в принципе не мог вдруг начать скандалить с женщиной. А свекору, видимо, было все равно – ругаются невестки, да и пусть как хотят. Хотя Екатерина, наверное, никому не жаловалась, сносила мучения молча. Может быть, надеялась, что Бог все видит, и когда-нибудь «отольются кошке мышкины слезки»? Если так, то она была права. Бумеранг злобы и неприязни вернулся в те руки, которые запустили его много лет назад. На долю Анны Степановны Смолиной выпала горькая, бесприютная старость.
Поразительно то, что спустя всего несколько лет после описываемых событий Анна Степановна готова была общаться с Екатериной Алексеевной на правах ближайшей родственницы и подруги. И еще более поразительно, что женщина, претерпевшая так много обид от злобной снохи, не отказывала ей в таком общении. Когда Екатерина Алексеевна со своей семьей уже жила в Москве, т.е. начиная с 30-х годов, Анна Степановна часто и весьма охотно приезжала в гости к Екатерине Алексеевне и Ивану Васильевичу, вела себя как ближайшая родственница, живала по нескольку дней. В 60-е годы у нас в Москве, в нашей коммунальной квартире, временами жили ее сын Борис и его жена. Они ели и пили в доме, им всегда стелили крахмальные простыни. Разумеется, бабушка не могла отказаться принимать членов семьи Смолиных, поскольку это были родственники ее мужа. Тем более что Борис, младший сын Анны Степановны, родился в 1927 году и, видимо, знать не знал о том, какие подлости творила в свое время его мать.
Глава 16. В НОВОМ ДОМЕ
Время шло, семья Смолиных разрасталась. В 1923 году у Екатерины Алексеевны и Ивана Васильевича родилась младшая дочь Анна, Анечка, моя будущая мама. Старшие дочери, Ираида и Тоня, подрастали. Мальчикам, Лене и маленькому Косте, также требовалось жизненное пространство. В начале 20-х годов Екатерина Алексеевна и Иван Васильевич решили, что им нужно строить для своей семьи новый дом. Трудно представить, как им удалось в течение нескольких лет, имея пятерых детей, заработать и скопить денег на строительство дома. Но факт остается фактом – удалось. Там же, в деревне Трясцино, был построен прекрасный большой дом из новых розовых сосновых бревен. Рядом с домом располагались так называемые службы – коровник, конюшня, сенной сарай. Вокруг дома был разбит яблоневый сад. Чтобы обставить дом, была заказана новая мебель – столы, стулья, шкафы (стул, на котором уже в Москве гладили мои шелковые ленточки – из того самого гарнитура). Мебель была также из сосны, розового цвета, покрытая светлым лаком.
Между прочим, несмотря на то, что Екатерине Алексеевне в те годы пришлось претерпеть много бед и невзгод из-за неприязни к ней со стороны снохи Анны Степановны, детям своим моя будущая бабушка никогда ничего плохого про родных не говорила. Когда Екатерина со своей семьей переехала в свой собственный дом и жила уже отдельно от родственников мужа, сноха Анна Степановна любила по-родственному придти к ним в гости. Вспоминали такой случай. Однажды, в какой-то праздничный день, Анна пришла к Екатерине Алексеевне погостить и привела сына Леню, одетого по случаю праздника необыкновенно нарядно – в белую матроску с голубым воротником. Анечка, маленькая девочка, невероятно обрадовалась тому, что пришел ее двоюродный братик. Ей захотелось немедленно его угостить чем-нибудь вкусным. А что в те времена было самым вкусным для деревенских деток? Печеная свекла! Анечка достала на кухне несколько штук печеных свеколок, и они с братиком Леней, усевшись где-то в уголке, стали с удовольствием эту свеклу поедать прямо руками. Во что через несколько минут превратилась белая матроска Лени, можно представить без труда. Мама не помнила, ругали их взрослые или нет. Но сами дети были в ужасе, когда поняли, что невероятная красота праздничной рубашки утрачена так быстро и, видимо, безвозвратно. Это происшествие запомнилось Анечке, очевидно, потому что впервые в ее детской жизни самые добрые намерения неожиданно обернулись большими неприятностями.
Екатерина Алексеевна наладила свое крестьянское хозяйство самым наилучшим образом. Она выращивала зерно, главным образом, рожь, а еще просо и, возможно, ячмень. Разумеется, сажала много картошки и других овощей – лук, морковь, свеклу, капусту – все то, без чего невозможно прокормить семью. У нее в те времена всегда были две коровы, телята, поросенок, куры. И самое главное – лошадь, без собственной лошади такое хозяйство обработать было бы невозможно. Кстати, думаю, что на корм лошади она, наверное, выращивала и овес, вряд ли был смысл покупать овес, если была возможность растить свой. И еще – представьте себе – она выращивала лен, потому что умела его обрабатывать, чтобы иметь свое собственное льняное полотно.
Технология обработки льна, применяемая в русских деревнях, заслуживает того, чтобы о ней рассказать, хотя бы кратко. Во-первых, потому что в наше время мало кто имеет представление о том, как, собственно, делается льняная ткань, из которой шьют постельное белье, скатерти, дорогие стильные платья и т.д. Во-вторых, следует хотя бы перечислить все виды работ, которые русские крестьянки выполняли своими руками для того, чтобы иметь собственное льняное полотно для нужд семьи.
Итак, землю под посевы льна весной необходимо вспахать, вспаханные поля засеять. Осенью, разумеется, лен с поля нужно убрать. Созревшие, почти совсем сухие стебли льна жали серпами, связывали в небольшие снопики, на некоторое время оставляли на поле, а потом на телегах свозили в специальные амбары. Далее, когда хозяева завершали все необходимые работы по уборке зерна и овощей, собственно, того, чем предполагалось кормить семью в течение зимы, наступала очередь обработки льна. Снопы льна сначала «мяли» с помощью специальных приспособлений – «мялок», чтобы сухие стебли освободить от жесткой шелухи. Далее длинные, лохматые льняные «мочалки» трепали (да, был такой процесс – «трепать» лен), потом чесали большими деревянными гребнями. После этого наступала пора прясть нитку. Всеми этими делами хозяйки занимались зимой, короткими зимними днями и длинными вечерами.
Не знаю, все ли крестьянки, которые выращивали лен, сами пряли нитки, или отдавали прясть каким-то специальным «пряхам». Не знаю, пряла ли свой собственный лен моя молодая бабушка. Во всяком случае, прясть она умела, не раз показывала мне, маленькой девочке, как это делается, как нужно ловко и быстро крутить пальцами веретено, чтобы на него наматывалась нить. Более того, когда бабушка Екатерина Алексеевна рассказывала мне в подробностях, как в крестьянских хозяйствах делали льняное полотно, она обязательно вспоминала и напевала старинную печальную песню про пряху:
«В ни-и-зенькой светелке о-о-гонек горит,
Мо-о-лодая пряха у окна сидит…»
И дальше следовала какая-то трагическая история, приключившаяся, если не ошибаюсь, с женихом молодой пряхи. Грусть захлестывала мое детское сердце… А бабушкины деревянные веретёна сохранились у меня в доме до сих пор.
Однако, нитки – всего лишь полдела. Ближе к весне, когда ниток было напрядено достаточное количество, лен отдавали ткачихам, у которых были специальные домашние ткацкие станки. И из рук ткачих хозяйки уже получали свое собственное льняное полотно. Но на этом дело не кончалось. Ткань была грубой, грязно-серого цвета, кое-где на ней попадались крошечные соринки твердой шелухи, которые могли поцарапать кожу. Такую ткань еще нельзя было использовать для пошива, например, постельного белья, не говоря уже о белье для детей. Но к этому времени, как правило, уже наступали первые весенние дни, проглядывало яркое весеннее солнце. И хозяйки приступали к завершающему этапу обработки льняного полотна – отбеливанию. Широкие полотна новой ткани мочили в воде и расстилали их на снегу, на сугробах, которые еще не начали таять под весенним солнцем. Горячее солнце яростно жгло влажную серую ткань, испарение воды из снега также играло свою роль, и постепенно, день за днем, льняная ткань становилась все белее и белее. Жаркими летними днями новые полотна также старались вынести на солнце, перед этим щедро полоскали в воде, потом расстилали на траве, на солнечных лужайках, и натуральный серый цвет льна выгорал, ткань становилась белее и нежнее. Из такого полотна уже можно было шить все, что угодно.
Вот так, веками и неустанными трудами русских женщин создавалась у нашего народа традиция носить белое белье, детей одевать в белые рубашечки, спать на белых простынях, на столы стелить белые скатерти. Сейчас от одного только перечисления всех этапов обработки льна современный читатель уже, наверное, немного устал. А каково было женщинам, крестьянкам все это делать своими руками? Вот, пожалуйста, одна из таких женщин – Екатерина Алексеевна Смолина, моя бабушка.
Екатерина работала на свою семью с утра до ночи, как говорили, «не покладая рук». Для решения самых сложных вопросов и по строительству дома, и по хозяйству ей на помощь из Едимонова приезжали отец и брат Илья. Когда подросла ее дочка Тоня (приемная, но с этого момента мы больше не будем об этом вспоминать, как никогда не вспоминали в семье, напомним, что она росла на руках у Екатерины Алексеевны с трех лет), она тоже включилась в работу, стала по мере сил помогать матери в работе по хозяйству. Тоня уехала из деревни в Москву к отцу в возрасте 14 лет. Есть все основания полагать, что в ее жизни крестьянский труд сыграл ту же роль, что и в жизни многих других сельских жителей – дал четкие представления о реалиях окружающего мира и стал хорошим импульсом к развитию острого ума, данного от природы.
Как бы то ни было, понятно, что женщине, какой бы хозяйственной и работящей она ни была, невозможно было бы одной проделывать такой гигантский объем работ, которого требовало большое крестьянское хозяйство. Екатерина нанимала работников, батраков. И, судя по воспоминаниям бабушки и ее уже подросшей к этому времени дочки Тони, отношение к работникам в семье всегда было вполне уважительное. Их считали за членов семьи, часто трапезничали с ними за одним столом. Конечно, такое хозяйство создавалось не в один год. Но к концу 20-х годов Екатерина Алексеевна как хозяйка прочно «стояла на своих ногах». Семья жила в собственном новом доме, продуктов питания вполне хватало на весь год, излишки сельхозпродукции можно было продавать, дети были обуты – одеты. Муж, Иван Васильевич, бывая в деревне наездами из Москвы, помогал своей Кате всем, чем мог.
Глава 17. «ВОТ ТЫ ВЫРАСТЕШЬ, ДОЧКА, ОТДАДУТ ТЕБЯ ЗАМУЖ…» (Старинная русская песня)
В 20-х годах в Едимонове, в семействе Мордаевых, также произошло много событий.
Семья Ильи Алексеевича и Анны Ивановны Мордаевых пополнилась тремя детьми. Вслед за старшим сыном Василием один за другим родились еще два сына – Петр и Константин. В 1926 году родилась красавица-дочка Нина. В том же году вышла замуж младшая дочь стариков Мордаевых Маня, Мария Алексеевна.
Поскольку село Едимоново и деревня Трясцино находились совсем недалеко одна от другой, примерно на расстоянии 5-6 километров, родственные семьи жили в самом тесном контакте между собой. Разумеется, Екатерина очень часто бывала со своей семьей в доме отца в Едимонове, были они и на свадьбе Мани. Удивительно, но факт: у моей мамы, несмотря на то, что ей в 1926 году было всего три года, в памяти остались некоторые детали этой свадьбы.
Мария Алексеевна (Маня) вышла замуж в село Видогощи (так говорили: вышла замуж в Москву, вышла замуж в Трясцыно, вышла замуж в Тверь и т.д.). Село Видогощи расположено также по соседству с Едимоновым, на берегу Волги, примерно в 10 километрах выше по реке, ближе к Твери. Взял ее замуж Сергей Комаров, сын довольно зажиточного (в прошлом) купца. Отец Сергея Прохор Комаров до революции 1917 года держал буфет на одном из пассажирских пароходов, ходивших по верховьям Волги. Насколько велик был масштаб «бизнеса» Прохора Комарова, в 20-х годах уже никто не знал. Дом Комаровых в селе Видогощи был большой, крепкий, «пятистенок», на улицу выходил фасадом в шесть окон. Когда Маня выходила замуж, ни отца, ни матери Сергея не было в живых, он жил в своем большом доме вдвоем с какой-то старухой – то ли его теткой, то ли бабкой. Он сам ее так и называл «старуха».
Свадьбу праздновали с большим размахом – жених все-таки был не бедный и, видимо, хотел, чтобы все об этом знали. Празднование началось в Едимонове, в доме Мордаевых. Детишкам, чтобы не мешались под ногами у взрослых, было велено сидеть на печке. И они все – четверо мальчишек и девочка Анечка (моя мама), наблюдали за происходящим с высоты печки. Для маленькой девочки, очевидно, свадьба представлялась каким-то фантастическим событием. Ее, например, поразили своей красотой белые восковые цветочки, из которых был сделан венок невесты. Такие цветочки назывались «флердоранж» – цветы апельсина. Веночки из «флердоранжа» были традиционным украшением невест на торжественных свадебных церемониях.
Еще маленькой девочке запомнилось, что в доме было очень много народу. Видимо, было много чужих молодых мужиков – друзей жениха. По окончании торжества в доме Мордаевых жених увозил невесту к себе в Видогощи, и друзья должны были сопровождать коляску, в которой ехали молодые, получался настоящий свадебный кортеж. Кроме того, на этой свадьбе Анечке впервые пришлось увидеть ряженых, она вспоминала: вдруг в избу ввалились какие-то фигуры, одетые неизвестно во что. Один из них изображал медведя – был одет в тулуп, вывернутый наизнанку, мехом вверх, и еще к тому же рычал. Дети на печке перепугались до ужаса. Видимо, маленькая Анечка в этот день впервые испытала такие сильные эмоции – восторг от красоты восковых цветочков и страх перед медведем, потому и впечатления об этой свадьбе врезались в память моей мамы на всю жизнь.
Несмотря на то, что Мария вышла замуж в богатый дом, была молода (ей было 20 лет), и муж ее был молод, по-видимому, ни любви, ни большого семейного счастья ей испытать не удалось. Хотя с материальной точки зрения в семье все было хорошо, и со стороны ее жизнь всем казалась вполне благополучной.
Сергей Комаров не хотел заниматься сельским хозяйством, тем более, принципиально не желал становиться колхозником. Он работал счетоводом на торфодобывающем предприятии, которое располагалось на противоположном берегу Волги (сейчас это место называется поселок Радченко). Видимо, имел кое-какое образование.
Марии тоже удалось поучиться значительно больше, чем ее старшим сестрам и братьям. Во-первых, после окончания деревенской начальной школы она продолжала учиться в школе (как говорили – в школе второй ступени) в поселке Городня, расположенном на том берегу Волги, где проходит шоссе Москва – Ленинград, то есть все-таки значительно ближе к цивилизации, чем заволжские деревни. Во-вторых, родители, видимо, не хотели, чтобы младшая дочка была принуждена, как их старшие дети, всю жизнь заниматься тяжелым крестьянским трудом, поэтому дополнительно определили ее учиться швейному делу к хорошей портнихе-мастерице, которая на протяжении многих лет брала к себе в учение девочек-подростков. Окончив «курс обучения» у этой портнихи, девушки не только умели хорошо, профессионально шить, но и обладали обширными, я бы сказала, теоретическими знаниями по швейному делу. Во всяком случае, наша Мария Алексеевна до последних лет своей жизни, то есть до конца 70-х годов, прекрасно шила, могла взяться за пошив любой вещи, вплоть до пальто (если хотела). И все, кто видел ее работу, удивлялись, какими тонкостями портновского мастерства она владела.

