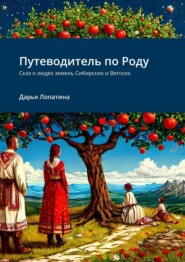
Полная версия:
Путеводитель по Роду. Сказ о людях земель Сибирских и Вятских
В исповедных росписях 1816 года в семье №104 видим уже только одного Панкрата. Теперь уже Дмитрия нет. Видимо, отселился в отдельный дом и обзавёлся собственным хозяйством. Но обнаруживаем с ним трёх других его детей, из которых старшему 29 лет, другим 14 и 11 соответственно. Даты жизни дополняю из других источников. Это Василий (ок. 1791 – ?), Михаил (1804, с. Шалоболино – ?) и Мария (1804, с. Шалоболино – ?).
В следующей семье №105 видим Дмитрия (не обязательно того, пропавшего из состава семьи, возможно, другой). Живёт с супругой Татьяной Матвеевной (ок. 1773 – ?) и сыновьями. Лука (ок. 1798 – ?), Панкрат (ок. 1804 – ?), Карп (ок. 1810 – ?) и Семен (ок. 1812 – ?).
Судьба у семьи Поляковых сложная. В конце 20-х годов новая власть их раскулачила и сослала (и это только одно из первых горестных событий). Они попали в первые партии раскулаченных. Я запрашивала дело об этом процессе. И получила краткую сводку о произошедшем. Вот выборочное её цитирование:
«Поляков Игнатий эксплуатирует батраков… Выписка из протокола заседания групп бедноты с. Шалоболино: Поляков Игнатий – в хозяйстве – 9 душ семьи, трудоспособных – 6, посева 15,6 дес., лошадей – 3, коров – 2, овец – 24, свиней – 1, обложен в индивидуальном порядке в сумме 289 руб. 05 коп.21 Имеет все возможные с/машины, которые эксплуатирует на стороне. Лишён голоса.
Эксплуатировал сезонных работников, стряпку, имел жатку, молотилку.
Выписка из учетной карточки 458 на лицо, лишённое избирательных прав: Поляков Игнатий Степанович, социальное положение – крестьянин, род занятий – хлебороб, место жительства – Шалоболино.
Состав семьи: жена Агафья, сын Федор, сын Александр, сын Дмитрий, сын Егор. Лишены избирательных прав по п. «А» ст. 15 за эксплуатацию с 1929 года.
Доход в 1929 году 1341, налог 289.
Индивидуально – раскулачен и сослан».
Сослали их в с. Усть-Чульск Тюхтетского района Красноярского края, когда Вере и её матери Агафье было 5 лет и 44 года соответственно. А когда бабушке Вере исполнилось 16, в 1941 году, вдвоём бежали в Шалоболино, к Ивану Филипповичу Мельникову, отцу жены Георгия Игнатьевича, родного брата Веры. У него укрывались некоторое время, а позже перебрались в город Минусинск.
Но на сайте общества «Мемориал», на странице, посвящённой раскулаченным сельского селения Шалоболино, дополняется этот список родным братом Игната – Иваном Степановичем 1904 года рождения. Здесь есть указания года рождения и других родных прадеда. Помните, я рассуждала, отчего у Агафьи год рождения гуляет? Родилась в 1886 году, а в последующих документах в 1883-м. Видимо, путаница пошла именно с периода вмешательства советских властей в её судьбу. В том списке указано, что родилась в 1884 году. Остальные данные если и ошибаются, то лишь на один год. На сайте указана статья осуждения 15а. Год приговора – 1929.
Вот что вспоминает моя тётя Л. Крылова, внучка Игната: «До революции занимались сельским хозяйством. В Сибири крепостного права не было, каждый работал на себя. Как говорила бабушка, плохо жили только лодыри, которые и вошли в первые советы бедняцких депутатов. У Поляковых была своя заимка, то есть у них достаточно много земли, куда из дома на работу в летнюю страду не наездишься. При образовании советов после революции Игнат возглавил этот совет, основная часть которого состояла из бедноты, то есть из лодырей, которых Агафья терпеть не могла, так как сама была работяга. В один день, когда Игнат отсутствовал, заехали советчики и потребовали накрывать на стол. Агафья же ответила, что Игната нет и вам, бездельникам, здесь делать нечего. Вот их вскорости и раскулачили. К этому времени взрослые сыновья уже жили отдельно, работали в Черногорке на шахтах.
В 1929 году раскулачены и сосланы на лесоповал в Усть-Чульск Тюхтетского района. Возможно, лесоповал находился где-то в другом месте, а к совхозу Усть-Чульскому семья была прикреплена позже».
Вообще, хотя сторонники новой власти нашлись и в Шалоболино, не все думали одинаково. В 1928 году там у сельсовета обнаружена листовка следующего содержания: «Долой Советскую власть, смерть коммунистам, сволочи коммунисты, в карман руки ходят, да себе галифе заводят… вашу мать, скоро вы все с голоду подохните, весь хлеб забрали у нас, хотя ту афишу вы сорвали, но пользы не получите. Коммунисты – лодыри, всю Россию продали, до Сибири доплелись, по амбарам поплелись». Источник – «Совершенно Секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922—1934), т. 6, 1928 г., Москва, 2004.
Говоря о происходящем в то время, никак не выходит из головы одна история. Изучая историю родных земель, я наткнулась на воспоминание о некоем Мельникове (фамилия эта мелькает у меня в родове, и, между прочим, они отличались не меньшей детородностью, чем Поляковы) родом из деревни Курганчиково, о которой писала в предыдущей главе. Бедолагу увезли в Минусинск, где, как и сотни других невинных жителей, расстреляли. Но палачам некогда было глубоко зарывать своих жертв, и рука несчастного осталась торчать из земли. Рука и край рубашки. Ночью тайком его родственники приехали, выкопали, увезли на малую родину и предали земле по-человечески.
Но вернёмся к воспоминаниям тёти. Также они совпали с рассказом пятиюродной моей сестры Запольской О. В., с которой мы свели знакомство на почве увлечения генеалогией, о том, что у Поляковых была собственная заимка, на которой выращивали бахчу, т.е. арбузы. А ведь они не то что друг с другом не были знакомы никогда, но и их родители. Этот момент подчёркивает то, что указанные сведения не являются ложными. Ну или, по крайней мере, сводит их ошибочность к минимуму. Ведь в документах действительно обнаружила сведения о заимке. У Павла Полякова в 1901 году зарегистрирована таковая. Судя по году основания – 1886, из имеющихся в древе трёх Павлов (очень жаль, что отчество хозяина заимки неизвестно) подходит по возрасту лишь один – Павел Игнатьевич (04.01.1863 – ?), другими словами, на момент основания заимки ему 23 года. Число хозяйств – 11. Население составляет 54 человека. Из них 25 – мужчин и 29 женщин. А вот подтверждения того, что Игнат был главой сельсовета, я не нашла.
Согласно этим же воспоминаниям, скончался Игнат в ссылке после болезни в 1943 году, но вот загадка: сотрудники ЗАГСа посмотрели данные по нему не только по Тюхтетскому району, но даже по всей России вплоть до 1980 года. Кончина его не зарегистрирована. Ну не может же он, в самом деле, до сих пор быть жив. Да и Агафья Анисимовна не смогла бы в таком случае выйти второй раз замуж.
Под финал главы поведаю любопытное предание. Род Поляковых по мужской линии славится не только феноменальным количеством близнецов и долголетием (это присуще и женщинам), но и красивой внешностью, отличительными чертами которой у мужчин являются кудрявый чуб цвета смолы и высокие скулы. Говорят, всему виной некая татарская княжна, на которой женился в стародавние времена один из прародителей рода, и именно ей мужчины обязаны своей привлекательной внешностью. Сначала это может показаться невозможным. Ассоциируя этот высокий статус с русским князем, сразу начинает казаться, что за простого человека девушка с таким происхождением пойти не могла. Но в Сибири обстановка другая, чем, скажем, в славном городе Владимире. Князей много. С приходом русских, которые стали заманивать их в свою веру (и не всегда по доброй воле, порой подкупом, а иногда и откровенно силой, да и добровольные не всегда проходили радостно22), местные народы тюркского происхождения, позиция изменилась. И простому парню, тем более если сила была на его стороне, вполне возможно заполучить в жёны такую девушку. И, скорее всего, он не особо ценил её статус. Чаще представители местных народов казались не совсем умными и просвещёнными людьми, говоря тактично. И говоря более откровенно – попросту варварами.
История Поляковых очень богата на события. Увы, мне так и не удалось пока выяснить, откуда они прибыли в Сибирь, зато их история здесь насчитывает несколько столетий. Это одна из самых щедрых на детей династия, через которую породнились посредством бракосочетаний друг с другом самые разные семьи, самые разные сословия с самым разным достатком. Именно через Поляковых я вышла на Толстых, Пушкиных, дворян и даже Романовых. Через Поляковых, которые были обычными крестьянами в далёком сибирском селе.
Глава 8. Кулаки и раскулачивание
С тобой хоть однажды было такое?
Чтоб небо кружилось над головою,
Чтоб чёрные точки перед глазами
Метались огненными роями?
Чтоб воздух горло палил на вдохе,
Не достигая бьющихся лёгких,
И на лопатках прела рубаха,
Мокрая от безотчётного страха?
И ты сознаёшь: свалилось на темя
Такое, что вылечит только время,
Но в завтра тебе заглядывать жутко,
Ты хочешь вернуть минувшие сутки,
Где было уютно и так тепло,
Где ЭТО еще не произошло…
…Бывало? И длилось больше, чем миг?
Тогда ты ОТЧАЯНИЕ постиг.
М. Семенова
Мне кажется, приведённые стихотворные строки очень хорошо отражают эмоции и чувства людей, подвергшихся репрессиям. Другими словами, большей части населения страны.
В чудесной песне Е. Аграновича поётся: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В моём Роду (и не только в нём) столько пострадавших от репрессий, что хочется спеть: «Нет в России семьи такой, где б не пострадал невинный какой».
Если начать составлять список (см. приложение «Жертвы режима»), получится бесконечным.
Гражданская война перевернула всю страну, настроила детей против матерей и даже матерей против детей. Обратила вспять достижения страны на 300 лет. Как итог не только уничтожение мирного населения, православного духовенства, но и продажа культурных ценностей за рубеж. Это прискорбное событие повлияло на всех без исключений.
А раз круг этих людей обширен, давайте поближе в этой главе познакомимся с этим явлением и тем, как проходило раскулачивание, также называемое раскрестьяниванием.
Согласно словарю Ушакова, кулак – зажиточный крестьянин, эксплуатирующий односельчан. В дореволюционное время так называли тех, кто имел «грязный», нетрудовой доход. Но таковые исчезли к 1917—1921 годам. Так что советский кулак не то же самое, что дореволюционный. По мнению В. И. Ульянова, признанного вождём революции, кулак – это крестьянин, который добывает хлеб честным трудом, но прячет, не отдаёт государству. Определение кулака в этом понимании сложилось к 1918 году.
Процесс раскулачивания начался 8 ноября 1918 года, и нахожу необходимым заметить, что для признания человека кулаком необходимо соответствие человека следующим параметрам:
– Привлечение наёмных работников (батраков).
– Наличие сельскохозяйственных машин, как, например, крупорушка23, мельница, маслобойня и пр.
– Сдача в наём сельскохозяйственных машин с механическими двигателями.
– Сдача в наём помещений.
– Занятие посредничеством, ростовщичеством, торговлей, наличие нетрудовых доходов (например, оказание разных услуг, доход на вложенный капитал, самогоноварение и пр.).
Как можно видеть, под эти пункты можно «подтянуть» фактически любого крестьянина.
Кулаков можно разделить на три типа.
1. Имеющие отношение к террористическим актам и восстаниям антисоветского характера; связанные с белогвардейцами; активные члены церковных советов или разных религиозных общин; богатые крестьяне, бывшие помещики и крупные земельные собственники.
Таковые передавались органам ГПУ24.
Члены семей кулаков этого типа выселялись в отдельные районы страны.
2. Так называемый «оплот кулачества в деревне». Они вместе с членами своей семьи также выселялись в отдельные районы. Приобретали статус спецпереселенцев. Ими также назывались бродяги, пьяницы и другие антиобщественные элементы, а также лица, совершившие правонарушения, которым лагерь заменили спецпоселением.
3. Все остальные. Мера наказания – выселение за пределы колхозных земель, но в пределах своего района, не в специальные поселения.
С кулаками разобрались. Но что же такое раскулачивание? Уже само название говорит само за себя, но давайте всё же поясню. Раскулачивание – это репрессии советского периода, включающие в себя лишения земли, имущества, арест и принудительную высылку миллионов крестьян и членов их семей в годы с 1929 по 1932. Советская власть стремилась внушить людям следующую мысль: кулак – классовый враг.
Этот процесс маскировался с помощью объявления кулаков противниками революции и объявления, что идёт строительство социализма25. С помощью подобных мер власть добилась полного контроля над крестьянами и сельским хозяйством.
Имущество выселенных конфисковалось и становилось собственностью колхоза. Взамен признанным виновными выдавались небольшие средства, чтобы могли обустроиться на новом месте, да разрешалось оставить из собственных средств 500 рублей. Но это не означало, что каждая семья покидала родной дом с этой суммой. Могли ни копейки не оставить, а, допустим, присвоить себе эти деньги или направить их государству. Тут уже зависело от совести исполнителей. Всякое бывало. Вплоть до случаев мародёрства, когда у арестованного забиралась не только последняя копейка, но даже шапка или, скажем, сапоги. И велели говорить спасибо, если исподнее оставляли. При этом особо не разбирались, тот ли этот тип крестьянина, который соответствует по параметрам термину «кулак». Если видели, что дом не совсем ещё разваливающийся сарай, это уже было поводом провести «раскулачивание». Даже бедняк не мог чувствовать себя в безопасности. Порой и до этого слоя населения доходили «щедрые» руки излишне старательных людей, стремившихся нажиться, пока есть такая возможность. Иногда даже собственная семья могла донести кому надо на родственника. Причины разные: зависть, святая вера в проводимую пропаганду, – вспомним печально известного Павлика Морозова, – давление новой власти.
Правительством решено направить в концлагеря 60 тысяч человек, выселить 150 тысяч кулаков в необжитые и малообжитые местности. Произвести высылку с расчётом на следующие регионы: Северный край – 70 тысяч семей, Сибирь – 50 тысяч, Урал – 20—25 тысяч, Казахстан – 20—25 тысяч с «использованием высылаемых на сельскохозяйственных работах или промыслах». Семьи арестованных направлялись в северные районы страны.
Спецпоселения строились в местностях, в которых была недостача рабочей силы. Условие такого поселения – нахождение не ближе чем на 200 километров от границ, железных дорог и населённых пунктов.
Теперь имя им – лишенцы. То есть лишены избирательных прав, приёма в партию, в профсоюзы. Из зарплат удерживались средства для содержания администрации спецпоселения.
Как ни странно, так называемые кулаки не только лишались всего, но и становились обладателями кое-каких льгот. Например, до 1934 года освобождались от налогов и призыва к военной службе. Даже в случае войны.
Давайте уделим небольшое внимание спецпоселениям.
Сам термин «спецпоселенцы» появился 9 июня 1930 года на пятом заседании Всесоюзной комиссии по устройству выселяемых кулаков. У этого термина есть и созвучные синонимы. Например, трудпоселенец или спецпереселенец. Но суть от этого не менялась.
Однако следует различать такие термины, как спецпоселенец и ссыльнопоселенец. Последние селились не в специальных поселениях, а в обычных сёлах и деревнях, только без права выезда из них.
Специальные поселения – это ограниченные территории с особыми правилами и существованием отдельных органов (спецкомендатуры).
Другими словами, та же тюрьма, только на воздухе. С видимостью, иллюзией относительной свободы.
Начальником такого поселения был комендант, который назначался крайоблисполкомом (краевой и областной исполнительные комитеты).
В круг обязанностей коменданта входило очень много задач, начиная от надзора за исполнением законов и заканчивая пропагандой.
Обычное дело, когда в спецпоселения прибывали сотрудники органов ОГПУ-НКВД и некоторых оставляли на месте, других освобождали, а третьих отправляли в ГУЛАГ.
Как же, собственно, жили спецпоселенцы на новых землях, куда их депортировали? Конечно, приходилось начинать всё с нуля. Строить дом. Часто строились примитивные бараки, т.к. это быстрее, проще и себестоимость ниже, чем у добротной избы. К тому же обзаводиться по новой хорошей избой и прочим попросту опасно – могли раскулачить повторно. Также приобретали по новой инвентарь, культивировали землю (а она предоставлялась для этих целей худшая: болота, бывшие лесные вырубки и т.п.) и делали многое другое.
Условия, осмелюсь сказать, убогие. Приходилось жить уплотнённо, в грязи, без элементарных удобств. Со временем, с начала 1930-х годов, стали появляться некоторые улучшения, но небольшие. Строились больничные пункты, магазины, школы, библиотеки (в них обычно от 100 до 200 книг, но среди них художественные произведения встречались редко) и даже клубы. Учителями работали сами спецпоселенцы, но нанимались и свободные люди. А вот пионерские отряды создавать нельзя, как и военные кружки. Бараки чаще всего оставались в том же состоянии, в каком возводились изначально, и были непригодны для проживания. Они даже не ремонтировались.
Спецпоселенцам полагалась заработная плата, но её часто удерживали. Иногда это четверть всего заработка, иногда 5% от неё. Удержанные средства шли на содержание комендатур и территориальных органов управления. Тех же 5% удержаний хватало на то, чтобы содержать 150 районных или 800 поселковых комендатур.
Более живо помогут обрисовать картину специальных поселений воспоминания, описанные инженером-механиком Костылевым Евгением Андреевичем.
Он указывает, что в спецпоселение, в которое приезжал по делам, дорога вела довольно условная. Тропа, в ширину по которой и пять человек не поместятся. Вокруг лес. Но дадим право голоса самому Евгению Андреевичу:
«Начальником поселка спецпереселенцев был комендант – представитель органов внутренних дел. Комендант решал все вопросы, связанные с жизнью и нуждами людей, проживающих в поселке. Он для них – гроза, он и защитник. Без его разрешения ни один житель не имел права отлучиться за пределы поселка. Паспортов они не имели…
…Посёлок располагался на достаточно возвышенном месте. Вправо и влево от дороги (улицы поселка) располагались дома барачного типа. Каждый дом состоял примерно из двадцати комнат… Семья располагалась в одной комнате. На некотором отдалении от домов дымились костры, где пожилые хозяйки готовили пищу. Всюду слышались голоса детей и женщин. С левой стороны посёлка непосредственно подступал лес, а справа от домов шёл небольшой склон к речке. Здесь лес отступал на значительное расстояние от домов. Склон к речке был уже обработан, и грядки засажены самыми необходимыми овощными культурами…
…Меня очень интересовал вопрос о том, как их раскулачивали. «Списками на раскулачивание, видимо, занимались спозаранку в сельсовете, в райисполкоме, но я в этом время, – говорит Сима, – особо не интересовалась и не представляла, во что это всё обернётся. А обернулось это так: в один из дней к нам явились два милиционера и в категорической форме на основе какого-то распоряжения нам, т.е. всей нашей семье, было приказано собраться к вечеру, к таким-то часам быть на станции железной дороги для отправки на север. Разрешалось взять вещей и продовольствия в дорогу столько, сколько сможем унести собственными силами… Дальше мы шли пешком в лес, в тайгу. На первых порах разместились в землянках, шалашах, в палатках. Стали строить бараки. Вот так и живем до сих пор».
Да, жизнь раскулаченных переселенцев трудна. Не все одинаково осваивались в новых условиях, на лесоразработках. В условиях карточной системы на продовольствие, и, кроме того, величина пайка (нормы хлеба) зависела от процента выполнения норм выработки по заготовке леса. Некоторым молодым, здоровым парням большой трудности выполнение норм выработки не составляло, и они жили вполне нормально… Пользовались столовой, получали паек хлеба. Для жилья имелись бараки на сорок человек. Двадцать человек в одной половине и двадцать в другой. В середине барака располагалась сушилка для сушки верхней рабочей одежды и валенок. Разумеется, в лесу работать трудно, тяжело: чуть не до пояса снег, то мороз градусов под тридцать, то зимняя оттепель, и это самое неприятное.
Но были и такие, которые трудно осваивали лесное производство. К сожалению, таких довольно много. Они не вырабатывали норму… В соответствии с выработкой получали пониженную норму хлеба (вместо 800 гр. – 600 гр.). Этого пайка для мужчины не хватало. Постепенно силы терялись, и человек не только не выполнял норму, но и доходил до состояния, когда работать не мог. Начинал побираться, собирать с тарелок в столовой жалкие остатки супа, каши и т. д. Таких «доходных», конечно, были единицы…
…Запомнился один человек по фамилии то ли Казаков, или Казаченок; он приходил и садился на краешек длинного стола, терпеливо выжидая и следя за остатками на тарелках, которые он сваливал в свою мисочку и тут же уничтожал… Однажды захожу в столовую и вижу: Казаков сидит за столом. Увидав меня, Казаков встал, видимо, чувствовал, что я его буду гнать. Действительно, я сказал: «Казаков, ты опять тарелки подчищаешь?» Он ничего не ответил, я за ним особенно не следил, но тут же услышал гром разбитой тарелки и увидел, что Казаков повалился на стол. Он тут же умер. Мне стало не по себе, меня давило какое-то странное чувство, что в смерти этого человека вроде есть и моя вина. Если бы мне ничего не сказать, может быть, он остался жив. Так представлялось мне, но, видимо, дни его жизни были уже исчерпаны. Он истощал предельно. Я оставил ужин несъеденным, распорядился, чтоб вызвали медработника и убрали труп».
Видно, что автор этих строк сочувствует людям, быт которых описал в личном дневнике. А ведь люди так жили долгие годы.
Но к чему вообще вершить этот террор и геноцид населения, вся вина которого лишь в том, что люди стремились жить по-человечески? Главный мотив – страх, что крестьяне, использующие наёмный труд и средства производства, могли противостоять насильной коллективизации, которую власти проводили с 1924 по 1928 год. А главными задачами можно назвать формирование трудовой армии (дешевая рабочая сила, направленная на лесозаготовительные работы, промышленные стройки, освоение необжитых районов и прочее) и, конечно, средство преодоления крестьянского сопротивления, способ заставить их войти в колхозы. Ещё одна цель – освоение малообжитых или вовсе необжитых земель.
Чаще осуждали по статьям 58—626, 58—1027, 58—1128. Раскулачиванием и ссылкой дело не обходилось. Людей расстреливали. Часто семьями. И даже целыми династиями. Примером этому Бузуновы, Юшковы, Дорофеевы. Отец и сын от этой фамилии, соответственно Фома и Лазарь, расстреляны в один день. Быть может, даже рядом стояли. Бок о бок. Успел ли отец прикоснуться к руке сына и прошептать: «Держись»? Успел ли тот хмуро ответить: «Я держусь, отец»? В конце книги вы найдёте приложение со списком репрессированных. В исходном файле эти имена на сегодняшний день занимают более 50 страниц. В книгу вошли люди с наиболее близким родством. За исключением женщин, ставших жертвой эпох. Подобные случаи необходимо сохранять.
Вот такими методами строился новый мир.
Глава 9. Девять жизней Тропина
Удача – награда за смелость.
А. Герман
Тропин с ударением на последний слог – это фамилия отца моей мамы.
Пройдёмся по самой фамилии и возможной трактовке. Впервые появляется в документах XVI века. Существует версия, что тропа – это уменьшительная форма имени Евтропий, которое с греческого переводится как «благонравный». Возможно, человек, который первый в роду обрёл эту фамилию, носил такое имя.
Также прозвище, от которого фамилия теоретически произошла, могло звучать как Тропа. Такой человек, скорее всего, обладал тяжёлой походкой. Это от слова «тропать», что значит «тяжело ходить», «стучать ногами», «топтать».
Ну и самое очевидное, что можно предположить: человек жил вблизи от некой тропинки.
Впервые в Красноярском крае фамилия Тропин обнаруживается в 1657 году в качестве конных казаков. Их имена – Сенка и Мишка. Оба по отцу Трофимовичи. Велика вероятность, что родные братья. Сохранилась запись о том, что Мишка поведал: его отец в течение 30 лет тоже был конным казаком.
На сегодняшний день родство с братьями не подтверждено. В древе рода самый дальний родственник, чьё имя известно – Матвей Андреевич 1799 г. р. Он увидел свет за 24 года до основания деревни Большой Хабык, в которой жил род до начала XX века. Благодаря переписи населения Абаканской волости за 1850 год мы знаем, что жил там. А вот где родился, увы, неизвестно.



