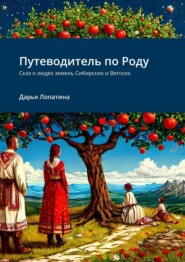
Полная версия:
Путеводитель по Роду. Сказ о людях земель Сибирских и Вятских
И раз уж заговорили о состоятельности, нахожу необходимым вкратце рассказать о трёх типах крестьян.
Среди зажиточных крестьян встречались так называемые кулаки-мироеды, которые являлись деревенскими лавочниками, ростовщиками, содержателями кабаков. Их также называли майданщиками. Слово заимствовано из острожного, т.е. тюремного, жаргона и обозначало вокзального вора, тюремного ростовщика, торговца водкой. Такие люди и правда давали водку (и другие вещи) в обмен на чай, сахар и прочие предметы.
Середняки. Люди среднего слоя населения. Такая семья состояла из четырех-шести человек при трёх взрослых работниках.
Бедняки. Хоть в Сибири и большой процент зажиточных крестьян, случалось и наоборот. Впрочем, всё же их меньше, чем в Европейской части России. В неимущие можно попасть много по каким причинам. Из-за утраты кормильца, падёжа скота, гибели посевов, стихийного бедствия и пр. В таких ситуациях человеку могли помочь родственники, и спустя время положение восстанавливалось. Однако если причиной бедности становились лень и пьянство, то такое окружающими порицалось.
Сироты и больные освобождались частично от несения повинностей, иногда община кормила за свой счёт. Сироты жили у родственников, крёстных родителей или приёмных. Чтобы человек ходил и просил милостыню – ситуация редкая.
И всё же, несмотря на более скромное положение, бедняк из старожилов по статусу выше ссыльно- или новопоселенца.
Но даже самые зажиточные хозяева трудились наравне с батраками. Последние не были на каких-то низких правах рабов. Это не тот случай, когда наниматель, отдав приказ батраку, сидел в шёлковом халате на диване и весь день предавался безделию. Сибирский крестьянин всегда не только относился к работнику как к равному, но даже кормил за общим столом (тут я не говорю о староверах, о них разговор особый) вместе со своей семьёй. Об этом свидетельствуют в XIX веке такие этнографы, как В. Арефьев и А. Макаренко. А Ф. Ф. Девятов из села Курагино Минусинского уезда писал: «Здесь наибольшее количество земли разрабатывают не те семьи, которые имеют сэкономленный труд или капитал, а те, у которых больше рабочей силы. Таким образом, здесь наибольшую пользу получает не разбогатевший мироед, а лучший крестьянин-домохозяин… Хорошо и выгодно жить в большой семье. Здесь не выработался тип мироеда, и зажиточный крестьянин продолжает быть всеми уважаемым человеком».
Были, конечно, бедняки, кому не хотелось заниматься землепашеством и подчиняться порядкам общины. Такие уходили в поисках лёгкой и даже разгульной жизни на прииски или в город.
В основном же бедняки, проработав на кого-то (это называлось трудиться «в строку»), уже через пять-семь лет могли себе позволить выбиться в середняки (да и прабабушка моя, Агафья Анисимовна Полякова, по рассказам мамы, всегда приговаривала: «Бедные – это те, которые только на печке лежат»).
Чуть выше я цитировала строки Ф. Ф. Девятова, который писал, повторюсь: «Хорошо и выгодно жить в большой семье». Нахожу необходимым развить эту тему.
Семьи и правда жили вместе. И близкие родственники (отец, сын, внук), и дальние – у них было общее хозяйство. Если в такой семье старший отец или дед, семья носила наименование «отцовская», если жили с родственниками – «братская». Порой численность в семье доходила до трёх десятков человек.
Глава семьи в мужской половине – отец. Он же «большак». В женской – мать, «большуха». Права и обязанности членов семьи регламентированы. В 1760-е годы сибирских крестьян перевели на повинности в денежной форме с лиц мужского пола и постепенно стал происходить раздел больших семей на более малые. Сыновья при этом получали равные доли. Но порой бывало и иначе – по заслугам.
В судебном разбирательстве Богучанской волости приказано «наследовать имущество сыну К., так как он в труде заслужил право достойного домохозяина, а его братья М. и П. шлялись по разным селениям, как бездомные».
Дочери тоже получали свою долю. Да и незаконнорожденные, а также приёмные дети имели права.
Что касается создания семьи, то Н. С. Щукин, этнограф и знаток сибирского быта, писал в 1860-х годах: «В деревне знают, за какой девкой ухаживает парень, а потому женят его, на ком надобно».
Большая часть браков заключалась в рамках своей волости. В обычае союзы жителей разных деревень. В этом я убедилась и лично, когда работала над родословной.
Но в каком же возрасте молодые считались зрелыми для создания ячейки общества? В разное время по-разному. По официальным данным, в XVII—XVIII веках мужчины женились около 35 лет, позже в 16—17. Впрочем, как подсказывает мой собственный исследовательский опыт, в разных семьях точки зрения на возраст отличались. У Юшковых, живших в Каратузском р-не Красноярского края, часты случаи выхода замуж в 13—14-летнем возрасте. Поляковы и Пермины, жившие в Курагинском р-не Красноярского края, и женщины, и мужчины женились около 20 лет. Лопатины из Шарыповского р-на того же края – в 16—18 лет.
Разводы – явление очень редкое. В новый брак обычно вступали после кончины второй половины. Нельзя венчаться более трёх раз. Если была необходимость в четвёртом бракосочетании, просто жили вместе. Невенчанные.
Рождаемость высокая, а жизнь долгая – люди часто доживали до 90 и 100 лет. Зафиксировано, что в 1710 году в Восточной Сибири проживало 15 человек мужского пола и 16 женского старше 100 лет. Но и смертность не низкая. Особенно детская.
Родственные связи имели очень важную роль. Близкие всегда помогали друг другу и в работе (подъём пашни), и в горе (когда отдавали в рекруты, при проводах в последний путь усопшего), и, конечно, в радости (праздники, свадьбы, крестины).
Что касается отношения к женщине, то оно было уважительным. Учёный-путешественник Д. Г. Мессершмидт в первой половине XVIII века удивился, описывая нравы жителей г. Красноярска. Писал, что в течение двух дней комендант Д. Шетнев в честь именин жены созвал большой званый обед, куда велел приглашать абсолютно всех, кто хотел прийти.
Губернатор А. П. Степанов писал о крестьянах Енисейской губернии: «У них женщины занимают первые места на пирушках, и ежели тесно помещение, то все мужчины стоят».
П. И. Небольсин в своих путевых заметках отмечал, рассказывая о Сибири: «…в разговорах и общении выражение „баба“ никогда не услышишь, разве только в бранном смысле».
Лучшими женщинами считались трудолюбивые (тогда употребляли выражение «усердные робить»), опрятные, быстрые («шустрые», «огневые») и в домашних делах чистоплотные («чистотки»). Считалось, что невестке в семье мужа необходимо почитать супруга, свёкра и свекровь, не лениться работать, жить честно.
А вот нескромное и грубое поведение порицалось. Для таких даже слово отдельное есть – «халда». Общественность также возмущало, если женщина громко кричала («хайлала»), была излишне болтливой («болтушка», «балаболка», «тараторка»), тем более бранилась («лаялась»), ворчала («бухтела»), вечно всем недовольна («фырчала»).
Выше мною уже приведено несколько сибирских слов, обозначающих отрицательные черты характера. Вот ещё несколько занимательных, которые сохранились и до наших дней:
Зюзя – пьяница;
Изгаляться – делать неприятности (любопытно, что в нашей семье у этого слова другое значение – извернуться, умудриться, суметь);
Мухлевать – обманывать;
Пакостить – без спросу брать (сегодня значение чуть изменилось, теперь означает доставлять неприятности).
В женской половине глава – жена хозяина дома. Это бабушка, мать или старшая женщина. Часто жена первого сына. Если хозяин дома отсутствовал, то большуха могла продавать скот и распоряжаться доходом.
Женщины имели деньги на мелкие расходы, личное имущество. Работа распределялась. Кто-то варил, кто-то готовил, кто-то делал сальные свечи, а кто-то ухаживал за скотом. При этом работа по содержанию порядка в доме считалось отдыхом. Если сыновей в доме не было, то принимали мужей дочерей. При разделе хозяйства не только мужчины получали свою долю, но и вдовы.
Говоря о женщинах, невозможно не затронуть тему детей. Любой взрослый человек мог сделать замечание ребёнку, и, если становилось об этом известно родителям, строго наказывали дитя, так как честь рода важнее всего, а проказы её роняли, лишали авторитета семью. Детям внушалось: «Не позорь рода – племени своего, предков своих».
Считалось, с момента рождения необходимо было дать напутствие. Бабка-повитуха приговаривала над новорожденным: «Не будь крикливым, не будь ревливым, будь уёмным, будь угомонным, не будь жадным, будь аушным» («ревливый» – плаксивый, «уёмный» – легко успокаиваемый, «угомонный» – спокойный, «аушный» – алчный, вероятно, в данном контексте жадный к еде, чтобы рос здоровым и сильным).
В первый год жизни следили за здоровьем. Вправляли врождённые вывихи, грыжу, закаливали. М. Ф. Кривошапкин писал, что ребятишки трёх и пяти лет даже в сильный мороз барахтаются в снегу и не простужаются. Важную роль играла баня. Тот же Кривошапкин писал: «Сибиряки парятся так жарко, что, выйдя из бани, падают в снег или идут в прорубь, невзирая на трескучий мороз». Однако пугает поверие, что в младенческом возрасте ребёнок не чувствует боли, поэтому во время лечебных процедур особо не миндальничали.
Обычно воспитанием в семье занимались дедушка с бабушкой, так как из всех меньше заняты крестьянским трудом и в связи с тем, что родители ещё не созрели для этого.
Часто ребёнка называли шутя по имени-отчеству, спрашивали совета, беседовали на серьёзные темы. Уже в шесть-семь лет дети начинали работать: ухаживали за домашней птицей, следили за порядком в доме и на подворье.
Рабочий день семьи выглядел следующим образом. В три-четыре утра отец будил домашних. Женщины собирали завтрак, доили коров, готовились к выезду на работу – укладывали еду. Молодые люди подготавливали лошадей, складывали в телеги серпы, вилы, косы, грабли, припасы.
Из еды в огромных количествах потребляли рыбу, очень любили пельмени (считается, что слово «пельмень» произошло от пермяцкого «пельнянь», что означает тестяное ухо, ведь «пель» – ухо, ушко, «нянь» – тесто, хлеб, и затем было принесено в Сибирь), вид хлеба – ржаной, очень уважали пироги (их известно около 50 видов) и любили блины. Из напитков, помимо традиционных кваса, киселя и чая (который любили пить с молоком), употребляли кедровое молочко, которое делали из толчёного кедрового ореха. Щи, к слову, отличались тем, что капуста, лук и прочая зелень не клались. Туда входили крупа, вода, мясо, соль.
Но, однако, я вас утомила историей Сибири. Теперь, когда у вас есть общая картина жизни крестьян, давайте перейдём к истории земли Вятской.
Глава 4. Земля Вятская
Вятка – всему богатству матка.
Вятская поговорка
Уделив внимание сибирским крестьянам, справедливо будет это сделать и по отношению к Вятской губернии. Нелишне упомянуть и историю этих земель.
Название Вятской губернии происходит, как это часто бывает в истории мира, от имени реки, вдоль берега которой расположена. И эта река – Вятка. Самая большая в крае. Теорий происхождения названия несколько.
1. По удмуртскому племени ватка, что означает – выдра.
2. От финно-угорского слова, которое переводится как «медленный», «спокойный».
3. От славянского «мокрый» или «больше» – в контексте больше других рек.
Впервые история этих краев встречается в Троицкой летописи от 1408 года, что была написана в Москве.
Вятский край знаменит тем, что в Смутное время9 именно здесь разворачивается жестокая борьба между сторонниками царя Василия Шуйского10 и Лжедмитрия II11. Повстанцы, помимо других городов (Царевосанчурск, Яранск, Кукарка), заняли и Котельнич (в соответствующем уезде проживали мои предки, см. главу «Вятские Перминовы»).
Вятских земель коснулась крестьянская война в 1670—1671 годах под руководством небезызвестного Степана Разина. Вятчане участвовали в войне против Астраханского ханства в XVI столетии, а также приложили руку к освоению Сибири, входя в войска, которые её захватывали. И именно через Вятку проходил кратчайший путь туда.
Агитаторы Емельяна Пугачёва, под предводительством которого в 1773—1775 годах по всей России прошла крестьянская война в эпоху правления Екатерины II12, в южных районах Вятской земли ездили по удмуртским деревням, ведь костяк сторонников Пугачёва в основном составляли нерусские народы, и на родном для них языке читали листовку, призывая присоединиться к войне. Восстание то было жестоким, как и время, в которое происходило. Расправлялись без всякой жалости не только с врагами. Уничтожению подлежали и священники, и мирное население, и честь женщин любого возраста.
Вятским землям не чужды чудеса. Один из ярчайших примеров тому – отступление болезни. Весной 1657 года напала на вятские земли моровая язва, которая отступила после того, как в четвёртое воскресенье Великого поста священнослужители с властями и всеми горожанами совершили вокруг города крёстный ход с нерукотворным образом Спасителя. С этого дня не было больше заболевших.
В XIV веке произошло небывалое. 24 мая 1383 года крестьянин Агалков из деревни Крутицы увидел на берегу реки Великая необыкновенно яркий свет. Приблизившись, обнаружил, что источник оного – икона с образом святителя Николая. Конечно, крестьянин принёс икону в деревню, и здесь произошло ещё одно чудо – икона излечила от паралича крестьянина Иоанна. В дальнейшем святыню перенесли в город Хлынов, и каждый год в мае месяце местные жители торжественно выносили икону на реку Великую. Это получило название Великорецкого крёстного хода и с 1551 года приняло регулярный характер. До 1777 года ход совершали водным путём по рекам Вятка и Великая, затем стали проходить по суше. Мастерица дымковской игрушки Н. Н. Суханова так вспоминает об этом событии: «Поразительное, незабываемое зрелище! Всё духовенство в блестящих праздничных ризах с хоругвями, иконами. Спуск с пристани усеян народом. А сколько нищих! Многие в грубых мешковинных рубахах. Все тянут руки, покрытые язвами (говорят, их специально натирали бодягой), хромые, слепые, всякие калеки… А на реке стояли пароходы и огромные лодки, украшенные березками…»
До поры до времени на вятских землях жили коренные народы (вотяки, черемисы, удмурты, татары13), вполне возможно, что Перминовы вышли из коренных народов нынешней Кировской области. Некоторые из них отличаются очень интересным разрезом глаз. Таким обладают, к примеру, дети Перминова: Зиновия, Александр и Антонина.
В уездах Вятский, Орловский, Котельничский, Глазовский, Нолинский, Слободской жили по большей части коренные вятчане, а оттого выговор их отличался обилием местных слов и выражений. Славяне же стали появляться в XII столетии. По большей части представители таких сословий, как торговцы, ремесленники (в будущем так и вышло, что основное население составили ремесленники и крестьяне). Первыми прибыли люди из таких городов, как Новгород, Устюг, Суздаль и пр. В основном приезжали, спасаясь от врагов и в поисках более богатых земель.

Переселенцы селились группами. Это вообще свойственно человеку ещё с древнейших времён. Места заселения – будущие города Котельнич, Орлов, Вятка (изначально носил название Хлынов14, но в 1780 году в соответствии с приказом Екатерины II переименован в Вятку).
Большая часть русских переселенцев являлись крестьянами. Их основное занятие – земледелие. Преимущественно выращивали овёс, ячмень, рожь. Одежда изготавливалась из конопли и льна. На огородах выращивали по большей части репу, капусту, горох, свеклу, лук, чеснок, морковь. Не обходилось и без сладких даров природы. Яблоней, малины, чёрной смородины. Конечно, занимались скотоводством, охотой, рыболовством, сбором мёда, обработкой металла, в том числе серебра.
Конечно, промышляли и охотой. Ружьё появилось уже к XVII веку, стрелявшее лишь на 250 метров. Но по причине того, что на Вятской земле его не производили, чаще всё же использовали лук и стрелы.
Жители земли Вятской торговали не только с местными нерусскими народами, но также с Волжской Болгарией и разными русскими княжествами.
Как позже и в Сибири, хлеб преимущественно ели ржаной. К хлебу отношение святое. Если кто из детей нечаянно хоть крошку ронял на пол, тут же получал от отца тяжёлой ложкой по лбу. Пшеничный хлеб знали, но он считался баловством и фактически лакомством. Мясо ели по праздникам.
Пили часто медовые напитки, молочные, квас. На нём также готовилось много блюд. Окрошки, щи, свекольники, борщи, запекали в квасе мясо и сладкие блюда. Даже мылись им вместо мыла.
Трапеза – это своего рода священнодействие. Стол – это Божья ладонь. Нельзя стучать по нему или, сидя за ним, смеяться. Если опоздал к трапезе – вовсе есть не разрешат. Кроме того, приём пищи в семье – дело столь интимное, что, если гость к этому времени в дом придёт, разделить еду его не пригласят, как это принято в наши дни. Даже в ответ на его слова «Хлеб-соль» могли ответить: «Едим, да свой, а ты не смотри да рядом не стой».
Своих денег на Вятской земле не было, поэтому пользовались деньгами соседей. Таньгой (по-русски это произносилась как «деньга») Золотой Орды, а также мелкой медной монетой по названию пула, на которой изображались петух, лев, солнце или… двуглавый орёл, так нам знакомый сегодня. Из русских денег в ходу гривна серебра, весившая порядка 196 грамм.
Так как Вятка находилась на пути в Сибирь, которая в XVI веке стремительно заселялась переселенцами, то и Вятская земля тоже пополнялась активно русскими. Передвигаясь, они основывали починки15 – мелкие населённые пункты с населением в одну-две семьи. В починках налоги не платились. Но минус в том, что, когда земля истощалась через несколько лет, крестьяне бросали дом и переносили на новое место. С появлением пашенного земледелия поселение становится постоянным и преобразуется в деревню с десятком дворов.
Погост – это ещё один вид населённого пункта с церковью. Крупнее его – село, в котором обычно было выше 30 дворов.
Важные вопросы крестьяне решали сообща на сходе. Большую роль играло такое явление, как помочи – совместный неоплачиваемый труд. Помочи в Сибири были тоже распространены. С их помощью осуществлялись работы, необходимые для общества: строительство школ, ремонт дорог, поддержка земляков, попавших в затруднительное положение. Так же, как и в Сибири, дети с самых малых лет помогали родителям. Крестьянское сословие отличалось честностью. Вплоть до того, что даже дома не запирались на замок. Вставляли, правда, в скобу двери палочку, но это не для защиты имущества (да и кого сможет остановить палочка?), а чтобы обозначить – дома никого нет. Посты соблюдались строго, невзирая на то, что христианские обычаи сочетались с древними.
Как это в целом встречается среди крестьянства, зимой в избу пускают корову для дойки, овец, а телята и ягнята большую часть зимы живут в избах. Кур держали под печками. По этой причине часто здоровье жителей таких домов было подпорчено, а глаза – красными по причине воспаления.
Свадьбы игрались по родительской воле. Бывали случаи, когда прямо в день венчания, увидев невесту в первый раз, разочарованный жених сбегал, но повторная попытка женить отпрыска всё же свершалась по родительскому выбору. Средний возраст жениха с невестой 19—20 лет. Но, как и в Сибири, имелись случаи и ранних браков, когда молодожёнам всего 14—15 лет.
В общем, как видно, в общих чертах жизнь крестьянская напоминала сибирскую. О земле Вятской рассказала не просто так. Ведь по женской линии мои предки именно оттуда и пришли.
Глава 5. Вятские Перминовы
Конец – это начало; переезд – это новое начало.
Поговорка
Пока единственный род, о коем известно, откуда приехали в Сибирь, – Перминовы. Их родина, как уже сказано выше, Вятская губерния.
Самый дальний по времени прямой предок – Иван Иванович, 1633 года рождения. Известно имя дедушки Ивана – Устин, чьи даты жизни пока скрыты мраком тайны.
С 1900 года уже в Сибири окончание «ов» у фамилии отбросилось.
Рассмотрим теории происхождения фамилии. Истоки могут тянуться к прозвищу, образованному от географического названия местности, являющейся родиной одного из предков. Например, Пермяк – житель города Пермь или окружающих его земель. Само название «Пермь», к слову, происходит от вепсского (финно-угорский народ, обычно проживавший на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. – прим. Лопатиной Д. А.) «перама», что означает «далекая земля». Такого рода фамилии наиболее древние, некоторые из них образовывались ещё до XV века. Возможно, Перминов – одна из них.
Могла происходить от финно-угорского народа коми. Они занимали территорию Уральских гор, которая на старинных картах обозначалась как Пермь Великая.
Суффикс «инов» является русской моделью, которая происходит от отчества. Если отца звали Пермяк, то его ребёнка именовали Пермин сын. Сокращённо Перминов.
К сожалению, точное место и время появления фамилии невозможно установить, поэтому остаётся лишь гадать, которая из версий является достоверной.
Перминовы переселились в Сибирь в 1850-е годы из починка Аверки Щепина (позже деревня Бычковы) Вятской губернии. Вот вам и подтверждение происхождение фамилии от г. Пермь, ведь Вятская губерния с Пермской граничит. До этого жизнь семью по Вятской губернии помотала.
Сидор Федорович, отец Зиновия, перевёзшего свою семью в сибирские земли во второй половине XIX века, остался сиротой в возрасте девяти лет. Это видно по пятой ревизской сказке 1795 года, где указано, что его отец Федор Леонтьевич скончался в 1789 году в возрасте 32—34 лет в Котельничском районе Кировской области.
В девятой ревизской сказке 1850 года Зиновий фигурирует уже взрослым и написано: «Якова Андреевича приёмыш принятой к дочери Матроне (32 года) Зиновей Сидорович Перминов (33 года) переведён по указу Вятской палаты государственных имуществ от 11.11.1841 за №2969 здешней волости из Гремечевского общества деревни Патринской».
Другими словами, перебирается из деревни Патринской в починок Аверки Щепина.
Дедушка Зиновия Федор, видимо, прожил всю жизнь в Куринской волости (сейчас Котельничский р-н), и Перминовы стали скитаться только после его смерти. Я пришла к этому выводу, так как впервые мой предок упоминается в третьей ревизской сказке за 1762 год в возрасте семи лет. И запись о кончине фигурирует в той же самой волости, но уже в пятой ревизской сказке. Передвижение его сына по губернии началось уже после этого.
Тем не менее починок Аверки Щепкина (деревня Бычковы) запоминаем, так как жили там Перминовы не только в середине XIX века. Взглянем на запись в документах 1646 года: «Ларка Федотов сын Перминов с детьми Стенкой да Савкой, Стенка женат, Савка 14 у него ж живут племянники Поликарпик да Парфенко, Поликарпик 13, Парфенко 6».
К сожалению, пока родство этих Перминовых со «своими» доказать не могу, но, будем надеяться, это временное явление.
Любопытен один факт. В начале главы указано, что после 1900 года частичка «ов» в фамилии была откинута, но что, если не в следствии ошибочной записи, а потом просто махнули рукой – пусть так и останется и будет впредь, а представители рода вспомнили, что некогда фамилия именно так и звучала? Давайте обратим внимание на запись переписи 1646 года о деревне Высоково Орловского уезда Вятской губернии (теперь это Орловский р-н Кировской обл.): «Ивашко Гавлив сын Пермин з детьми с Устинком да с Ывашком да с Мишкою, Устинка сын Васка 3 лет, Ивашко 13 лет, Мишка 9 лет».
Заметили? Пермин, а не Перминов.
Или ничего такого мои предки не вспоминали, а просто вот так интересно спустя 400 лет совпало, что фамилия снова стала изначальной?
Продолжая историю о смене места жительства этой семьи, я нашла довольно занимательным название… Лысая гора16. Да-да. Именно такое наименование у населённого пункта, где они проживали с 1678 года, когда Васко Устиновичу было 35 лет. Также оно называлось Лопырёва гора, починок Афонки Чюланова, деревня Афанасия. Это Котельничский оброчный стан, Красногорская волость. Туда они перебрались из вышеуказанной деревни Высоково Орловского уезда. Затем, между 1678 и 1719 годами, когда Ивану Васильевичу был 41 год, случился переезд в починок Онучинский (ныне д. Верхние Цыпухины Котельничского р-на Кировской области).
Между 1762 и 1781 годами зафиксировано переселение, цитирую: «Некоторые дети и внуки Ивана Васильева Перминова из Онучинской в Патринскую17». Это не абсолютная истина, но совпадает с Иваном, сыном Васки Перминова. Мы не знаем его года рождения, но знаем год рождения родного брата Родки – 1677 год. Значит, Васке около 80 лет. В принципе, это возможно, тем более что Перминовы обычно долгожители. К примеру, Зиновий Сидорович Перминов, о котором я упоминала в начале главы, прожил 83 года. Скончался он в 11.07.1900 уже пожившим старцем в деревне Курганчиково Курагинского района Красноярского края, к счастью, так и не узнав, что его внучке придётся пережить раскулачивание и утратить всё нажитое непосильным трудом. Тем более тут упоминаются некие загадочные внуки (очень жаль, что без имён), а это косвенное подтверждение тому, что Иван уже в преклонном возрасте.



