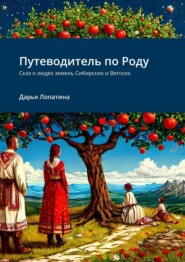
Полная версия:
Путеводитель по Роду. Сказ о людях земель Сибирских и Вятских
По какой-то неведомой причине одна семья долго в одном месте не задержалась. В частности, Антон Васильевич Перминов 1681/1684 года рождения. Он со своими взрослыми для тех лет сыновьями Иваном и Матвеем (17 и 15 лет соответственно) прожил в деревне Скурихинская Юрьевской волости недолго. Впервые встречаются эти имена там в 1719 году, и переведены в уже знакомую нам с вами Онучинскую до 1722 года. Но что же всё это за населённые пункты?
Деревня Высоково Орловского района. Самые ранние обнаруженные мною данные в Государственном архиве Кировской области (ф. 237. о. 71. д. 421) относятся к 1758 году. Тогда статус населённого пункта – починок. Назывался уже не Высоково, а Высоковский. Состоял из 7 дворов. В 10 семьях проживало 43 жителя. К этому времени Перминовы уже покинули деревню, но интереса ради всё же эти данные привожу. Сейчас это деревня Высоково Орловского р-на Кировской области. По официальным данным, в 2010 году числилось 82 жителя.
Деревня Лысая гора (она же Лопырева гора, также починок Афонки Чуланова) Макарьевского р-на Кировской обл. Согласно переписи 1678 года (как раз того года, с которого Перминовы в лице Васко Устиновича проживали в том месте), там было всего два двора. Видимо, один из них принадлежал Васке. Тогда ещё даже Российской империи не существовало. Официальное территориальное деление звучало так: Московское царство, Вятка, Котельничский уезд.
Деревня Скурихинская Котельничского р-на Кировской обл. Первые документы по ней появляются в 1628 году. Но нас интересует 1719-й. Именно тогда Антон Васильевич Перминов с сыновьями Иваном и Матвеем перебрался в эту деревню. Именно в этом году там проводится первая ревизия. В то время эту же деревню ещё называли Павловская или Другая Скурихинская. И в общей сложности там проживало 10 человек. Т.е., помимо нашего предка и его родных, ещё семеро. Сейчас это Котельничский муниципальный район Кировской области. Ныне ещё существует. По всероссийской переписи на 2010 год жило 30 человек.
Деревня Онучинская. Ныне д. Верхние Цыпухины Котельничского р-на Кировской обл.
Переведены А. В. Перминов с детьми Иваном и Матвеем до 1781 года. 100 лет спустя, к 1886 году, там 8 дворов, и на них приходилось 62 жителя. В среднем 7 человек на один двор.
В ней же, в ревизии 1719 г., «деревня, что был починок Онучинской: крестьянин Иван Васильев сын Перминов 47 л. (1672 г.р.), у него дети Козма 22 л. (1697 г.р.), Тихон 11 л. (1708 г.р.), у Козьмы сын Ефим 4 л. (1715 г.р.)».
Деревня Патрины. Позже Нижние Цыпухины. Это Котельничский уезд Шеломовской и Сорокинской волости. Сейчас это Кировская область, Котельнич и Котельничский район. Ныне не существует. Нас интересует период между 1762 и 1781 годами, но на этот период информации нет. А вот по состоянию на 1802 год, за 9 лет до прибытия туда Сидора Федоровича, душ мужского пола числом 15 жило. Сословие – чёрносошные. То есть государственные крестьяне.
Деревня Логинцы Новотроицкого р-на Кировской обл. До революции Котельничский уезд. В период между 1811 и 1816 годами. Из д. Кудрино (где жил до 1811 года) переселился туда Перминов Федоров Иванович 1760 г.р.
Починок Аверки Щепина (деревня Бычковы) Гвоздевская (Гостевская?) волость. Нам известно, что Перминовы прибыли туда на проживание между 1811 и 1850 годами. Если взять сведения списков населённых мест от 1802 года, то населённый пункт территориально относился к Котельничскому округу Гостевской волости. На тот момент число дворов: 6. Душ мужского пола: 23. Проживали черносошные люди.
Имеется описание местности: «по левую сторону Московского почтового тракта от Котельнича к границе Яранского уезда, к северу от города Котельнича».
Но все эти люди не просто переселялись из одного места в другое, но и занимались куплей-продажей.
Василий Устинович (ок. 1643, д. Лопырева Гора Макарьевского р-на Кировской обл. – ?), мой прямой предок в 11-м колене, 28.02.1684, в возрасте 41 года, купил у Гребенева Евтихия Григорьевича половину «деревне пустую без насеяного хлеба».
Его сын, Иван Васильевич (1671/1678, д. Высоково Орловского р-на Кировской обл. – ок. 1750, д. Верхние Цыпухины Котельничского р-на Кировской обл.), в 1711 году, в возрасте 33—40 лет, купил у Тяглова Стана Куринской волости «четвертой свой пай деревни з дворными и гуменными хоромы» всё у того же Гребенева Епимаха Назаровича за два рубля.
На следующий составили документ, согласно которому «в том паю деревни жить и всякия подати платить».
19 лет спустя, 07.03.1730, видим другой любопытный документ. Согласно ему, мой предок «продал тое ж волости починок свой» Сандакову Симону Федоровичу за три рубля.
Уже после смерти Ивана 11.06.1759 его сын Федор (1702—1718, д. Верхние Цыпухины – ок. 1750) уже со своим сыном Савелием (1737/1738, д. Верхние Цыпухины – ?), когда Федору было 41—57 лет, а Савелию 21—22, купили половинку починка у Конева Карпа Мартыновича и Вванеева Степана Пантелеевича «голую землю без насееного хлеба и без дворовых хором» за три рубля. Другая же половина починка продана Екиму Кудрину с братьями.
Речь идёт о починке Горевском. Ныне это деревня Горево Свечинского р-на Кировской области.
Если ознакомиться с историей этого населённого пункта, то можно выяснить, что она создана… Перминовыми. А самые распространённые там фамилии – Перминовы и Кудрины. Не могу не отметить, что в целом по России два рубля – это цена одной коровы или избы.
Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что мои предки жили на территории Вятской губернии на протяжении минимум 217 лет. От 1633 года (возможно, и раньше, просто более ранних источников нет) и до 1850 года.
Теперь, рассмотрев вятских Перминовых, пора перейти к сибирским.
Глава 6. Перминовы из деревни Курганчиково
Лишь трудом и борьбой достигается самобытность
и чувство собственного достоинства.
Ф. М. Достоевский
В отношении Перминовых интересна в Сибири деревня Курганчиково ныне Курагинского района Красноярского края. Это в нескольких часах езды от текущего места проживания, поэтому там побывать случилось. Перемещаться во времени наша цивилизация ещё не умеет, поэтому не могу судить с гарантией, но, как мне кажется, с XIX века населённый пункт изменился несильно. Неуверенно стоят скромные домики, почти отсутствуют дороги, и милые жеребята бегают по улицам, словно кошки. Один из них, отличающийся особой игривостью и весёлым нравом, бежал прямо впереди нашей машины.
Правда, чтобы найти Курганчиково (если интересно значение названия, то оно происходит от уменьшительного тюркского слова «Курган»), пришлось поплутать. Мой верный телефон с картой, который честно простоял всю ночь на зарядке (вот вам крест!), как, впрочем, и нетбук с описанием пути, оказались очень некстати разряжёнными. Оба. Поначалу восприняла это как дурной знак и захотела сдаться. Но прежде чем обнаружили неисправность устройств, уже так далеко уехали – на 126 километров. Пробыли в пути ровно два часа. Отступать в последний момент? Никогда! И потому заставили машинку сделать несколько кругов. Подъехали к Шалоболино (смотри главу «Поляковы из села Шалоболино»), и визуально я помнила, что Курганчики совсем недалеко. В семи километрах, это восемь минут пути. Чуть ли не через дорогу.
Поплутав где-то минут 30, искомый объект был, к нашему всеобщему облегчению, найден. Как не нашли его сразу – ума не приложу. Он действительно оказался чуть ли не через дорогу от Шалоболино. Следовало лишь повернуть направо от упомянутого населённого пункта и ехать по дороге. Размышляя о Перминовых, которые поселились там, перебравшись из других мест, остаётся только надеяться, что они были умнее своей простоватой прапраправнучки и нашли новый дом быстрее.
Первое упоминание о деревне встречается в 1781 году (за 77 лет до приезда Перминовых). Источник этой информации – «Ведомости 1781 г. о составе приходов Тобольской губернии» в приходе Курагинской Архангельской церкви. Она же свидетельствует о том, что состоит деревня Курганчиково из пяти дворов.
Основана на правом берегу реки с ласково-шепчущим названием Шушь. До устья расположены ещё семь деревень. Среди них Пойлово, Шалоболино. И часть из правобережных населённых пунктов тоже имеют прямое отношение к моему роду.
В самой деревне собственной церкви не было, поэтому записи в метрическую книгу осуществлялись в соседних. Преимущественно в Дятловской и Шалоболинской.
Увы, через 200 лет после появления на сибирских землях моих предков ждала беда под названием советская власть. В 20-е годы начался процесс отнятия того имущества у крестьян, которое у них имелось. Даже если это одна-единственная корова. И, увы, моя семья не стала счастливым исключением. О бедах родной прабабушки, Агафьи Анисимовны, можно прочитать в следующей главе, а сейчас пару слов о её родном брате.
Перминов Зиновий Анисимович родился 20.10.1883 в селе Шалоболино Курагинского р-на Красноярского края. Русский, беспартийный, малограмотный, крестьянин-единоличник (крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное хозяйство или батрака). Пайщик лесопильного завода (пайщик – человек, внёсший пай; пай – доля, вносимая в капитал общества. – прим. Лопатиной Д. А.). Обвинён в том, что с 1929 года вел с другими лицами работу по созданию контрреволюционной организации, обсуждали вопрос о необходимости ухода в тайгу и формирования вооруженной банды. Реабилитирован в 1965 году.
Арестован 11.02.1930, когда ему было 47 лет, по обвинению в контрреволюционной организации. Приговорён особой тройкой (быстрое судопроизводство, имевшее возможность проводить следствие, обвинять и судить, которое контролировали чрезвычайные органы. – прим. Лопатиной Д. А.) при ПП ОГПУ по Сибкраю после трёх месяцев ареста 19.05.1930. Приговорён к исправительно-трудовым лагерям на 10 лет.
Арестован в связи с делом Лисман К. М. (подробностей об этом деле, кроме упоминания, так и не нашла – только то, что, к огромному сожалению, в 1930 году расстрелян, а 30 лет спустя с лишним, в 1965 году, реабилитирован), но, видимо, с семьёй Лисман мои родные и правда были знакомы. При крещении Ивана Филипповича Полякова 1911 года рождения выступает крёстным «крестьянин села Шалоболинскаго Карп Мартинович Лисман», он же поручитель 04.11.1911 при венчании Пермина Зиновия Анисимовича и Зубковой Анны Матвеевны, а 16.01.1915 при венчании Зубкова Иосифа Матвеевича и Поляковой Анны Трофимовны. Некая Ксения Степановна Лисман выступает в 1920 году восприемницей при крещении новорожденного Александра Зиновьевича Пермина.
Ну и немного общих сведений. В соответствии с данными архива (ф-р №260 оп. №3) по Курагинскому району выявлено кулацких хозяйств и их семей 2356, их членов семей – 7675, всего 10031 человек. Убрано 71 хозяйство из общего числа. Все семьи восстановлены Красноярским крайисполкомом от 25 декабря 1989 года, протокол №14 периода 1928—1936 годы.
Чтобы вы понимали уровень безвинно сосланных людей, это население небольшого городка.
Презент Михаил Яковлевич (1898—1935), основатель правительственной библиотеки Кремля, писал в своём дневнике 22.06.1929: «А посмотрели бы, что делается в Сибири! Там на активность кулака отвечают в среднем семью смертными приговорами в день». Так что моим родственникам, можно сказать, повезло, что отделались лишь высылкой и сложным уровнем жизни, а не вовсе её лишением.
Пострадал не только Зиновий. В спецпоселение в Томскую область выслана семья (обычная практика в то время): жена Анна Матвеевна 1888 г. р. Дети: Валентина 1917 г.р., Елизавета 1922 г.р., Алексей 1924 г.р., Александр 1926 г.р., Антонин (д) а 1928 г.р., Александр Иванович 1927 г.р.
Что любопытно, состав семьи расходится с моей базой данных. Сведения властей сходятся лишь по мнению Валентины, Александра и Антонины. Елизаветы и Алексея у меня вообще нет, и, конечно, удивляет указанный в составе семьи загадочный Александр Иванович 1927 г. р. Он ровесник другим детям Зиновия, но отличается отчество. Вероятно, это сирота, взятый на попечение. Возможно, ребёнок одного из почивших родственников. Или отчество к нему было присоединено по ошибке.
Но давайте пройдёмся по детям. Загадка с Александром Ивановичем не единственная. Согласно моим данным, основанным как на воспоминаниях родных, так почерпнутым в архивах, детей в семье девять. Из них четыре мальчика и пять девочек. Это Яков 1913 г.р., Павел 1914 г.р., Иоанн 1915 г.р., Валентина 1917 г.р., Лидия 1919 г.р., Лидия 1919 г.р., Александра 1920 г.р., Александр 1926 г.р., Антонида 1929 г.р.
Заметили нестыковку? У нас две Лидии, рождённые в одном и том же году. Первая родилась 3 марта, выросла, вышла замуж, взяла мужнюю фамилию Белоусова и имела крайне трагичную судьбу, потеряв из-за недоразумения сына. Другая родилась 23 марта и, прожив на белом свете совсем немножко, скончалась уже 18 июня того же года от поноса. Прошу прощения за некоторую неделикатность термина, в метрических книгах того времени причину смерти так и писали, я лишь цитирую.
Источники у этих данных вот какие. В первом случае воспоминания нескольких родственников из разных семей, чьи показания в этом вопросе сходятся. Лиду Белоусову они застали ещё живой, будучи маленькими детьми. Семьи ходили друг к другу в гости, и возможность ошибки нулевая.
Информация о маленькой Лидушке взята из метрических книг.
Первое, что приходит в голову: малютку Лиду, ту, что так и не выросла, я отнесла не к тем родителям. Но тут сомнений быть не может. В метрических книгах Шалоболинской Троицкой церкви в графе «родители» ясно указано: «с. Шалаболинскаго гражданин Пермин Зиновий Анисимович и Анна Матвеевна». Приведу на всякий случай и восприемников (крёстных): «с. Шалаболинскаго гражданин Яков Анисимович Пермин и гражданка Фекла Сергеевна Пермина». К слову, ближе с судьбой Якова вы сможете познакомиться в главе «Воины». Фекла тоже не чужая. Её прекрасно помнит моя мама.
К слову, вот как потеряла Лида Белоусова сына. Если бы история произошла в эпоху древних скандинавов, когда ещё были в силе викинги, о них, наверно, сложили оду. Трагедия произошла в городе Минусинск в семье потомка Перминовых в 1960-е годы. Мать звали Лидией Зиновьевной. По мужу Белоусова. У неё три сына. Юрий, Павел, Алексей. Играясь с охотничьим обрезом (огнестрельное оружие, изготовление путём укорачивания приклада или ствола ружья или винтовки. – прим. Лопатиной Д. А.) своего отца, Павел нечаянно выстрелил в Алексея. Будучи в шоке от того, что натворил, бежал из дома. Больше живым его не видели. Терзаемый муками совести, он повесился. На иве. По ту сторону речки Протока. Искали долго. Несколько дней. Что самое печальное, Павел ошибся, думая, что погубил родного брата. Только ранил. Алексей выжил.
После трагедии Лидия искала спасения у зелёного змия. И немудрено. Пережить такое горе своими силами невероятно сложно.
Заметьте, Павел распрощался с жизнью именно на иве. То самое дерево, которое называют в народе плачущим. Во многих народах Средней Азии оно связано с погребальным культом. На место скорби шли, опираясь именно на ивовую трость, и бросали затем в последнее пристанище человека. Хотя к истории это не относится, но нахожу любопытным заметить: считалось хорошим знаком, если трость затем прорастала.
Пожалуй, на этом можно закончить сказ о Перминовых и перейти к Поляковым, от союза с которыми пошёл мой род по женской линии.
Глава 7. Поляковы из села Шалоболино
Сибирская Швейцария моя,
Родные минусинские края,
Где первозданно все, неповторимо,
И все до боли близко и любимо.
И речка Шушь, Туба и Енисей,
Среди тайги, отвесных скал, полей,
В цветах со снежной шапкою Саяны,
В мечтах своих я вижу из Кургана.
И вижу Шалоболино – село,
Где мое детство буйно зацвело,
Село, где юность крылья обрела,
Несчастной и счастливою была.
К. Сульдин
В Шалоболино род Поляковых жил ещё до 1795 года. Именно в упомянутом году окончил свой жизненный путь основатель рода Егор Васильевич.
Другими словами, Поляковы прожили там более 200 лет. И это чувствуется. Когда мы туда приехали, сразу появилось ощущение, что оказались в родных местах. Была там впервые, но сразу чувство, что прожила всю жизнь. Даже название очаровывает. Ша-ло-бо-ли-но. Словно заклинание из сказки.
Как-то сразу удалось наткнуться на словоохотливую местную жительницу, которая явно с гордостью рассказывала о том, какая у них прекрасная церковь, не подозревая, что построил её наш родственник Артемьев18 и как в советское время, когда власти приказали её разрушить, те, что воплощали приказ в жизнь, оказались в процессе покалеченными в силу несчастного случая. Мне тут же вспомнилась одна известная фраза: «Случайность – любимый псевдоним Бога».
Но вернёмся к моим личным впечатлениям. Село очень аккуратное, заброшенных домов почти нет, дивная природа. А какой вид на горы! У меня в г. Абакан19 Енисейские прекрасно смотрятся, но они – жалкий холмик по сравнению с тем видом, что открывается в Шалоболино. Моя бы воля, я бы там жила. Совершенно невероятные впечатления. К счастью, их записала по свежим следам. Давайте обратим на них внимание:
«Родную землю я почувствовала моментально. Еще не увидев указатель, сердце у меня забилось, словно пойманная в клетку птица, а где-то в солнечном сплетении почувствовала что-то сродни морскому прибою.
Начало поселка – его центр. Там сразу и памятник Ленину (раньше там находился колхоз его имени), и центр акушерства, и церковь, и почта. В общем – все, чему положено находиться в центре. Я сразу достала камеру и начала все снимать. Как раз из акушерской клиники (весьма достойное здание, кстати) вышла очень культурная с виду женщина: деловой костюм, нитка жемчуга на шее, волосы убраны в валик на затылке.
– Село наше фотографируете? – доброжелательно спросила она.
Собственно, это стало началом затяжного разговора, в котором она много интересного рассказала, а также упомянула, что Поляковы до сих пор живут здесь, и вспомнила неких Александра и Ивана, спросив, знаем ли мы их. Мы, конечно, сообщили, что Поляковых за редким исключением знаем лишь тех, кто жили до революции. Я упомянула, что Степан Игнатьевич являлся председателем сельсовета до 30-х годов, когда его раскулачили (хотя подтверждений этому ещё не обнаружила, источник информации – потомок Поляковых, вероятно, это лишь семейная легенда). Женщина сказала, что, разумеется, такой древности не помнит, а вот тётя Оля помнит наверняка, она всё про всех знает. Вон, мол, она как раз идет. Мы смотрим – и правда из-за угла показался божий одуванчик. Женщина подозвала ее и спросила про Степана Игнатовича. Тётя Оля ответила, что не помнит. Мол, маленькая была. Сама она 1927 года рождения.
Поселок очень приличный. Дома везде красивые, ухоженные, как надо покрашенные. Хотя, конечно, есть и совсем заброшенные. А в одном кирпичном двухэтажном здании даже проросла ель сквозь него, и верхушку дерева видно через крышу. А окружающая природа! Это что-то божественное! Это надо видеть! Безмерно, неописуемо красиво! У меня сложилось настолько положительное впечатление о селе, что, когда на обратном пути мы проезжали менее удачные поселения, я говорила:
– Да-а-а, это не Шалоболино.
В общем, с такой красотой и психологией местного населения: доброжелательные все; кто мало работает – плохо живут, хорошо работают – хорошо живут; мало кто пьет (мы и вправду ни одного пьяного человека на улицах не увидели), неудивительно, что наши прародители жили там столетиями и уехали, только когда их заставила это сделать пришедшая новая власть.
А вот в отличие от поселка, кладбище меня несказанно разочаровало. По нему невозможно ходить. Никаких тропок, дорожек, ничего ровным счётом. Везде трава по пояс. Очень много лопухов, что для меня стало неожиданностью. А вот крапивы на удивление мало. Я надеялась зайти в часть кладбища, где старые могилы, вычислив нужное место по годам захоронения. Напрасные надежды. Дело в том, что кладбище очень быстро подзахоранивают. Не нужно быть археологом, чтобы увидеть свидетельства этому. Чудом мне удалось найти старые могилки. Довольно затруднительно, почти невозможно различить на них хоть какие-то надписи. От посещения погоста у меня осталось впечатление, что у местных не принято ухаживать за могилами. До такой степени заросшее кладбище… Как бы то ни было, поездкой осталась довольной чрезвычайно».
То, как мы нашли Поляковых, – история отдельная. Как уже имела честь рассказывать в предисловии, на момент начала исследований своей родословной я почти ничего не знала, а то, о чём всё же ведала, было каплей в океане знаний. Каплей с ошибочной молекулой в своём составе. Сейчас об этой молекуле и расскажу. Начну немного издалека.
Моя мама родилась в городе Минусинск Красноярского края. Помогала воспитывать её и её родную сестру прабабушка. Полякова Агафья Анисимовна. Потому похоронена вместе с моей бабушкой – Тропиной Верой Игнатьевной (15.06.1925 – 13.09.1981). Каждый раз, приезжая навестить их, я смотрела на суровый лик, взиравший на гостей с памятника, и думала, как мы похожи. Обе рождены в 83-м году, просто в разных столетиях. Обе пережили смену веков, но только на долю родственницы пришлось больше переживаний. Гражданская война, несколько международных, одна из которых Великая Отечественная.
Да, я застала тоже немало критических событий в мире. Землетрясения, наводнения, эпидемии, чуть ли не третью мировую войну. Но страну вижу в похожем состоянии. Изменение территориального состава страны, смена самой страны и правителя (соответственно, имеются в виду 26.12.1991, когда прекратил своё существование СССР, и уход с поста президента Б. Ельцина в 1999 году. – прим. Лопатиной Д. А.), и прочее, и прочее.
Но больше всего меня интересовало то, что мы родились в один год. Отличались только первые две цифры.
Я не знала девичьей фамилии прабабушки. Пыталась запрашивать сведения о рождении в минусинском архиве, но за 1883 год таких сведений не было. Как же так?
К сожалению, сама не могла работать в читательском зале архива, так как мой график работы с ним совпадал. Поэтому моя дорогая мамочка, спасибо ей огромное за это, ездила туда и просто выписывала одного за другим всех найденных Поляковых. Это каторжный труд. Носителей фамилии оказалось даже больше, чем Ивановых, а почерк священников не назвать каллиграфическим.
«Не верится, что все они – мои родственники, – думалось мне. – Такого просто быть не может. Наверняка просто однофамильцы».
Как бы не так. Род Поляковых оказался невероятно богат на детей. И не просто на детей. В каждой семье, где отец Поляков, рождались близнецы. Правда, редко выживали. Умирали от поноса или родимчика20 преимущественно, прожив при этом самое больше годик. Увы, чаще всё же покидали мир живых в первые дни рождения.
Но вернёмся к той, информация о которой положила начало гигантскому пути исследования родословной. К прабабушке Агафье. Исключительно путём выписывания всех подряд она была найдена. И в каком, как думаете, году? Отнюдь не в 1883-м! Она родилась 25 января 1886 года! На три года позже даты, заявленной на памятнике. Видимо, оформляя паспорт (в метрической книге указано, что это случилось в памятном для России 1945 году), каким-то образом смогла слукавить, и год указали в документе другой. Хотя как ей это удалось, не имею представления. Ведь если в метрической книге осталось указание на запрос сведений о рождении, значит, паспорт выписывался не со слов, как это тогда бывало иногда, а на основании метрики. Раньше бывало, что возраст корректировали, чтобы устроиться на работу. Однако Агафья всегда работала дома. Если хотела укрыться от власти, то поменяла бы и имя. В общем, точно причина пока неизвестна. Можно лишь строить теории.
Если же говорить в целом о роде, то могу сказать, что, как и многие люди крестьянского сословия, Поляковы жили большими семьями. Понять это помогли исповедные росписи и ревизские сказки. Выписываю, дополняя сведения о жёнах (тогда указывались лишь имена, в некоторых случаях с отчеством).
В росписях 1788 года под семьёй №74 значатся Иван Егорович Поляков (ок. 1749, с. Шалоболино – 1791) с женой Еленой Анисимовной Вагиной (1753 – ?) и сыном Дмитрием (ок. 1779 – ?). С ними живут его родной брат Панкрат (ок. 1753, с. Шалоболино – ?) с женой Ефимией Степановной Панкратовой (ок. 1761 – ?) и сыном Дмитрием (ок. 1780, с. Шалоболино – ?). Примечательно, что у Ивана были другие братья и сёстры, но жил отчего-то именно с Панкратом, вторым по старшинству после Ивана. Возможно, причина в этом. Возможно, в другом. Теперь уже вряд ли узнаем.



