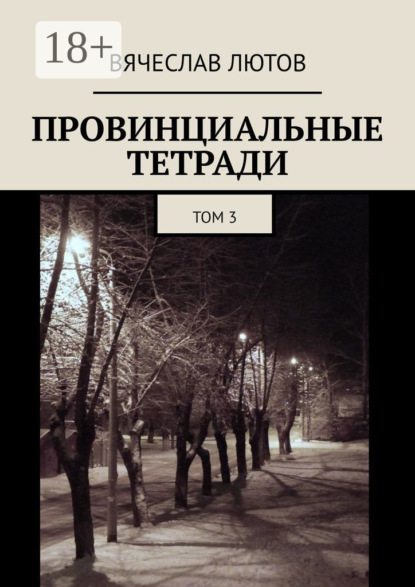
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 3
Разговор о льстецах – кровь от крови философия Сковороды, даже если он чаще всего приносит Ковалинскому в письмах «цветочки из Плутарха» на эту тему, и называет вслед за древним философом такие отличительные черты льстеца, как изменчивость и непостоянство. «Он подобно обезьяне подражает другим до тех пор, пока не получит того, чего домогался», и выявить его зачастую бывает сложно, так как льстецы, по словам Плутарха, бывают разные – открытые и скрытные. Поэтому Сковорода так подробно поясняет это своему другу:
«Один шатается у стола богатых, мелет вздор, шутит, льстит, смеется. А другой, прикрывшись маской серьезного мужа и мудреца, выдает себя за надежного мудрого советника… Первый стремится к тому, чтобы по-нищенски выпросить пищу и напитать чрево чужими обедами. Другой, как змея, вкрадывается в доверие, выведывает тайны, стремится к тому, чтобы причинить вред простому и неосмотрительному человеку и даже совсем его погубить. О, подлинно адская змея. Я сам испытал укусы шести или семи таких ядовитых гадюк…»
Он не рассказывает в письмах о том, как это было и кто эти люди. Он просто констатирует опыт, не называя, не раскрывая его.
Чтобы увидеть льстеца, необходимо особое зрение, чутье, осторожность. Но
Сатана увлекает в волны даже осторожных людей…
Вот и рассказывает, не рассказывая, о себе Сковорода молодому Ковалинскому:
«Сколько морального вреда принесли мне посланцы дьявола, обманув меня. Как хитро они вкрадываются в доверие, так что только через пять лет это почувствуешь. Ах! Воспользуйся хоть моим опытом! Я тот моряк, который, будучи выброшен на берег кораблекрушением, других своих братьев, готовящихся проделать тот же путь, робким голосом предупреждает, каких сирен, каких чудовищ им следует остерегаться и куда держать путь. Ибо другие потонули и отошли в вечность…»
Однажды Ковалинский попросил Григория Саввича дать ему совет «относительно планов жизни» и с какими людьми поддерживать отношения. Сковорода улыбнулся и ответил коротко – с хорошими. Но оговорился, что хороших людей, добрых сердцем и чистых душой, меньше, чем белых ворон, и потребуется много фонарей Диогена, чтобы найти такого человека среди лживых и пустых притворщиков, наполняющих наш мир.
«Поэтому правильней всего, я считаю, приобретать друзей мертвых, то есть священные книги…»
И письмо прерывается звоном колокола, который позвал философа в греческий класс…
Библия – сердце, античная философия – разум. Для Сковороды это – непререкаемое единство. И он с этим единством продирается сквозь восприятие древнегреческой культуры как культуры языческой, христианина не достойной. Его философское мировосприятие принимает античного философа как пророка истины, как толмача истины, как искателя истины – и последнее, пожалуй, самое ценное. Этика философского поиска не может жить пренебрежением, не может не требовать от Сковороды обязательства включить в свою орбиту и греческую пифагорейскую традицию, и платоников, и поздних римских стоиков. Она заставляет философа, выступившего учителем, требовать такого же священного трепета перед древней мыслью и от других.
«Имей ввиду, – предупреждает он Ковалинского, – что наиболее ясным доказательством твоей любви ко мне будет твоя любовь к греческим музам, и если тебе дорога наша любовь, то знай, что она будет продолжаться до тех пор, пока ты будешь чтить добродетель и эллинскую литературу…»
Это был почти ультиматум. Сковорода присылал своему другу фрагменты из сочинений Плутарха, Платона; в его письмах множество греческих слов, иногда с пояснениями; он предлагал другу свою помощь и предупреждал, что изучать античную литературу нужно медленно – «медленная непрерывность накопляет большую массу, чем можно предположить».
Чуть позднее Сковорода оговорится и «пожалеет» юного Михаила:
«Признаюсь тебе в моей к тебе привязанности; я тебя любил бы, даже если бы ты был совсем безграмотным, любил бы именно за ясность твоей души и за стремление ко всему честному. Теперь же, когда я вижу, что ты вместе со мной увлекаешься писаниями греков и той гуманитарной литературой, которая вдохновляет на все прекрасное и полезное, то в моей душе утверждается такая день ото дня возрастающая любовь к тебе, что для меня нет в жизни ничего приятнее, как разговаривать с тобой…»
«Гуманитарная литература», за исключением «сицилийских шуток», становилась их прибежищем. Сама эпоха брожения российской культуры оказалась поэтичной. «Если бы можно было писать так же красиво, как мыслить!» – восклицал Сковорода и пытался вверить свои мысли символической строке стихотворения. А юность Ковалинского, как и юность вообще, требовала поэзии.
Переписка будет буквально наполнена стихами. Иногда даже ради версификаторства на бумагу ложились изящные строки:
Я зашел в гавань, прощайте, надежда и счастье!
Хватит вам мучить меня, играйтесь теперь с другими…
Из гомеровского стиха они будут переложены ямбом, затем «двойным размером» и «чередующимися строфами». Сковорода даже опасается, что «наделал ошибок», но тут же извиняет себя: «Лучшая ошибка та, которую делают в учении… А ошибки друзей мы должны исправлять или терпеть, если они не серьезны».
Сковорода исправлял. Однажды, еще в самом начале знакомства, подправил размер стихов, которые переслал ему юный Ковалинский. А следующим письмом пришлось спрашивать:
«Мой Михайло! Скажи мне искренно и откровенно, сердишься ли ты на меня или нет? Неужели ты потому не прислал мне ни одного письма, что я признал твои стихи несколько неотделанными? Наоборот, тем чаще их присылай. Ибо кто же сразу рождается артистом?..»
Терпения и усидчивости молодому человеку, к счастью, хватало. Может быть, даже излишне, если Сковороде в буквальном смысле приходилось осаживать юношу: не стоит столь усердно грызть гранит науки, иначе зубы сломаешь.
О здоровье своего друга Сковорода вообще справлялся очень часто. Если долго нет писем – уж не заболел ли; если вдруг не явился в училище – уж не простыл ли? По-дружески и вместе с тем по-отечески предупреждал его:
«Не слушай неосмотрительно случайных людей, что рекомендуют тебе то или другое лекарство. Ни в одной отрасли нет такого великого количества знатоков в народе, как в медицине, и нет ничего такого, про что народ бы так мало знал, как про лечение болезней. За исключением распространенных простых лекарств, отвергай все. Кровопусканий и слабительных избегай, как ядовитой змеи. И если хочешь, зайди ко мне, и мы с тобой об этом поговорим…»
Ранней простудной весной Сковорода писал Ковалинскому, что некогда Гален, второй после Гиппократа великий врач, советовал в весенние дни поменьше спать и есть холодную пищу, поскольку «из горячей пищи развивается излишняя влага», а отсюда насморк – отец всех болезней. Приводит в пример и Плутарха, который также писал о «влажных материях» в организме, где скапливаются нечистоты: «Огонь ищет только то место, где он чувствует присутствие нефти: так болезнь, всякая зараза и воспаление не могут пристать, когда тело прохладно, лишено слизи и наподобие пробки легко». Приводит в пример и Сократа, который среди чумы остался невредим потому, что привык к святому образу жизни, к простой и умеренной пище.
«Лечение ж в том, чтобы быть веселым и бодрым. Но мать этого есть трезвость… Не будет трезвым и тот, кто перегружает себя едой, хотя бы он и трезвенник. О, как я был глуп, что так навредил своему здоровью, поддавшись в молодом возрасте влиянию распущенных товарищей…»
«Пока ты соблюдаешь трезвость, – Сковорода выводит юношу „за пределы носового платка“, – у тебя сохраняются и здоровье, и стыдливость, и репутация. Тебя подстрекают к невоздержанности? Но ты отбрось порочный стыд и ответь отказом…»
Наряду с невоздержанностью порочна и чрезмерность, причем, даже в тех случаях, если речь идет о делах благородных, полезных. «Сохраняй меру в бдениях и трудах своих, – учит Ковалинского Сковорода, – и тогда приобретешь духовное, но берегись, как бы не убить то плотское, которое может привести тебя к божественному». Эту меру Сковорода объясняет очень просто: если человек в одну из ночей из-за неумеренных бдений повредит себе глаза, то как же он будет читать книги и беседовать со святыми? «Разве не дурак тот, кто в начале долгого пути не соблюдает меры в ходьбе? Несомненно, этот не дойдет до Иерусалима: болезнь или смерть прервет его путешествие…»
Рвение, не знающее меры, приводит к беде. Так, в отношении поста Сковорода спрашивает своего друга: не дурак ли тот, кто совсем ничего не дает телу и готов в своем рвении запостить себя до смерти? И отвечает: «Сокращай лишнюю пищу, чтобы не проявлялся твой необузданный осленок, то есть плоть, но, с другой стороны, не убивай его голодом, чтобы он мог нести седока». Прекрасные вещи, говорит Сковорода, без меры становятся дурными.
То же самое касалось, например, общения. «Ты избегаешь толпы? Сохраняй меру и в этом. Разве не дурак тот, кто избегает людей так, что совершенно с ними не говорит? Такой человек безумец, а не святой. Просто смотри, с кем говоришь и общаешься».
«Все в меру» – об этом божественном правиле душевного здоровья и спокойного миропорядка Сковорода рассказал своему другу уже в первых же письмах: «Излишество порождает пресыщение, пресыщение – скуку, скука ж – душевное смятение, а кто страдает этим, того нельзя назвать здоровым…»
Невоздержанность и чрезмерность являются для Сковороды своеобразными и философскими, и этическими категориями, теми самыми доказательствами от противного, на основе которых строится его учение о душевном здоровье, спокойствии и счастье. Легко написать – обуздай страсти, и нет ничего сложнее, чем выполнить это действие. Остановишь страсть внешне – она уйдет в глубину и будет точить ядовитой водой твои члены.
В письме к Ковалинскому от 23—26 января 1763 года (одно из моих любимых писем) об этом будет сказано особенно четко. Более того, сам стиль письма – суть метод философского творчества Сковороды, образчик будущих его трактатов и диалогов.
«Взойди на высокую башню и раскрой в своей душе то, что волнует чернь. Ты увидишь, что один страдает чесоткой, другой – лихорадкой, третий – подагрой, четвертый – эпилепсией, пятый – водянкой; у одного гниют зубы, у другого – внутренности; некоторые до того жалки, что кажется, будто они носят не тело, а живой труп. Я уже не буду говорить о более легком: о кашле, изнурении, зловонном дыхании и подобном. Из таких-то и состоит мир, то есть из прокаженных членов.
Если ты и видишь среди них людей со здоровым телом, то и эти последние принадлежат к тем, кого уже тайно поймали в сети…
Мы этих больных избегаем и правильно делаем: чтобы они не заразили нас своим прикосновением. Однако мы охотно продолжаем общаться с теми, которые до сих пор здоровы, но умы которых уже повреждены и напитаны ядовитыми учениями. Но мы не заболели бы телом, если бы не заболели ранее душой. Что пользы удаляться от нечистого и зловонного блудника, если общаешься с теми, кто отмечен духом блудодеяния…
Ты избегаешь того, кто от пьянства становится безумным, но не остерегаешься чревоугодника, который своим примером призывает тебя к несвоевременному и неумеренному мясоедению и винопитию. Зачем же ты избегаешь реки, но к источнику приближаешься? Боишься пожара, но ищешь огня? Проклинаешь уголья, но ходишь по искрам и горящей золе?..»
И хочется, и колется – таков в просторечии глубинный парадокс мировосприятия, выложенного Сковородой в письмах перед юным Ковалинским в виде различных искушений, неизбежно преследующих юность, ибо «никогда не спит этот лев – дьявол».
«Что же тебя грызет? – спрашивает он у молодого друга. – Не то ли, что не принимаешь участия в попойках с обжорами? Что в палацах князей не играешь в кости? Что не танцуешь? Если все эти жалкие вещи восхищают тебя, ты еще не мудрый, а один из многих… Собери внутри себя все свои мысли и в себе самом ищи истинные блага…»
Летом 1764 года, провожая Михаила не столько на каникулы, сколько «на желание» его уехать и «отведать дворцовой жизни», Сковорода писал ему: «Итак, поезжай и вооружись не только против скуки, сколько против мира, блюди чистоту своей души. Ведь ты попадаешь из дыма в огонь. До сих пор ты только слышал о мире, теперь же ты его увидишь… Научись быть сильным…»
Он просил его писать и печалился, что не сможет дать спасительного совета, и утешался, что «в некоторых случаях мудрому надлежит принимать во внимание необходимость».
А необходимость была, отчасти, такова, что и самому Сковороде приходилось сражаться с «бесом скуки», с внутренним вихрем, который кружит душу, как сухую листву, как легкое перо. Однажды – в 1767 году – эта безответная тоска прорвется на бумагу: Сковорода запишет все на латыни, словно открещиваясь от нее и вместе с тем оставляя ее, как данность, которая «везде по всем разлилась»:
«Не удовлетворяет тебя твое учение? И в тебе сидит тот же демон. Мне не нравится, что я недостаточно музыкален? Что меня мало хвалят? Что терплю удары и поношения? Что я уже стар? Недоволен, что мне что-нибудь не по душе? Раздражаюсь из-за бесчестного поведения врагов и порицателей? Не они, но тот же бес мне причиняет это беспокойство: что такое смерть, бедность, болезни? Что такое, когда являешься посмешищем для всех? Когда надежда на будущее ослабевает? Разве душа не страдает от этого самым жалким образом, как бы поднятая дуновением ветра и гонимая вихрем?
Вот, душа моя, как я понимаю скуку…»
Первая книга
Есть много причин остановиться подробно именно на письмах Сковороды Ковалинскому, датированных 1762—1764 годами. Хотя в них еще нет философской стройности – этого требовать от Сковороды пока преждевременно; как и все письма, они фрагментарны, они живут «по поводу», который зачастую утерян. И все же…
Знать, что именно ты хочешь сказать и кому ты хочешь это сказать, – главное знание человека, положившего перед собой чистый лист бумаги. Можно складывать стихи для себя (что, собственно, Сковорода и делал и лишь однажды, в 1754 году, выступил с публичным «Рассуждением о поэзии») с надеждой, что их прочтут и другие. В этом смысле, письмо – это выход человека вовне, к другому, который уже не волею случая, а наверняка прочтет твое слово и вряд ли простит за слово фальшивое.
«Когда я встречаюсь со своими музами, – писал Сковорода Ковалинскому в 1762 году, – то никогда не бывает так, чтобы я мысленно тебя не видел и мне не казалось бы, что мы вместе наслаждались очарованием муз». Ковалинский, обычный студент, вдруг в одночасье стал уникальным адресатом Сковороды. Более того, философ не просто принялся писать другу письма – он в буквальном смысле обрушил на Ковалинского поток писем, словно его до этого что-то сдерживало, не давало высказать прямо, не прибегая к символике стиха, тех мыслей, что накопились в нем за сорок лет.
Ковалинский, «образ дражайшего Михайло», любимый «муравей и кузнечик», стал для Сковороды своеобразным и очень мощным катализатором философского творчества. Через тридцать лет, посвящая своему другу «Потоп змиин», Сковорода словно подытожит свой «творческий метод»:
«Древний монах Эриратус все свои забавные писульки преподносил в дар другу и господину своему патриарху Софронию, а я приношу тебе. Ты мне в друге господин, а в господине – друг…»
Ковалинский оказался особым условием творчества – и в этом сочетании, невидимом сотворчестве была заложена своя особая сила: ощущение, что твой философский мир заполнен и востребован. Не было пустой бездны, в которую рожденные сердцем слова падали бы, как предвыборные листовки в невесть какие почтовые ящики. Зато был Михаил, который рядом, который слышит, к которому можно приехать в гости.
Цельность философского творчества Сковороды, цельность его «пишущей личности», может быть, во многом и произросла из единичности адресата – «настоящими моими друзьями не могут быть многие…» Произросла из самого принципа – обязательности адресата, словно конкретный и ясный человек способен удержать на привязи своего имени отвлеченные философские образы. Практически все произведения Сковороды имеют посвящения, имеют за строчками живого человека, который, собственно, и стоял перед глазами, пока рука водила пером по бумаге…
Есть еще один важный момент, который мы не замечаем в силу сложившихся стереотипов и который позволяет взглянуть на письма Сковороды к Ковалинскому иначе, чем принято.
Стереотип в том, что на письма мы смотрим как на приложение к творчеству. Поэтому письма занимают последние тома в собраниях сочинений или последние страницы в отдельной книге. Это биографический источник, разъяснение причин, штрихи к эпохе и обстоятельствам, частная жизнь частного человека, не предназначенная для широкой публики. Такое отношение к письмам совершенно справедливо и спорить здесь не о чем.
Но как у любого правила есть исключения, так и письма Сковороды к Ковалинскому не укладываются в привычное прочтение уже хотя бы в силу того, что написаны на одном дыхании (два года из семидесяти лет – это действительно мгновение), написаны потоком и менее всего посвящены личным обстоятельствам («скрытный» Сковорода ничего не расскажет о «происшествиях» своей жизни). Более того, не могу отказаться от ощущения, что эти письма появились бы, даже если бы Сковорода никогда и не встретил Ковалинского; к этому времени философский поиск Сковороды как бы достиг своей «точки кипения» – и оставалось лишь подставить чашки, чтобы разлить обжигающую воду.
На письма Сковороды стоит смотреть как на отдельную книгу, завершенную тогда, когда сорокалетний Сковорода высказал своему другу все свои любимые мысли.
На письма Сковороды стоит смотреть как на первую книгу. Поэтому каждый раз и указывается на даты, на время. Письмами в полной мере можно открывать сочинения Сковороды. Это дебют, первый вкус философского слова. Все идеи, высказанные Ковалинскому как в письмах, так и в устных беседах (Ковалинский в биографии философа перескажет многие разговоры), суть зерна, из которых произросли сочинения Сковороды. Да, в письмах темы сковородинских трактатов и диалогов только обозначены пунктиром, бегло, по поводу, по настроению – но все же обозначены.
Обозначено и главное – гносеология Сковороды:
«Сковорода, – рассказывал Ковалинский, – стараясь побудить мыслящую силу друга своего обучаться не только в книгах, но больше в самом себе, часто в беседах с ним разделял человека на двое: на внутреннего и внешнего. Называл одну половину – вечной, а другую – временной, одну – небесной, другую – земной, одну – духовной, другую – душевной, одну – сотворенной, а другую – творческой. Таким разделением в одном и том же человеке усматривал он два ума, две воли, два закона, две жизни…
Первого по божественному роду его именовал царем, Господом, началом, а второго же по земному бытию – рабом, орудием, подножием, тварью. И первому по преимуществу его надлежало управлять и главенствовать, другому же следовало повиноваться, служить…
Он говорил с сильным убеждением истины: «…О, семя благословенное, человек истинный, божий! Вся видимость есть подножье его. Сам он в себе носит царство, причисляя к небесам всякого просвещаемого им и восполняя своим всеисполнением, сев по правую руку отца небесного навеки…»
Чтобы исполнить это, нужно было лишь посмотреть на человека и познать его…
Гужвинский гносис
В свои 44 года Григорий Сковорода снова на перепутье. Так бы мог написать биограф, который и сам каждый раз оказывается на перекрестке обычных житейских дорог, ищет денег до зарплаты, подрабатывает невесть какими заказами, чутко прислушивается к разговорам в свой адрес, ждет счастливого поворота судьбы – вот, вот сейчас, может быть, она и вынесет его в «счастливый дивный мир богатых и знаменитых». И между делом, как требует того писательское приличие, выискивает в себе редкие созвучия с русским Сократом. Но не замечает подчас и не хочет принять, что идти обычной дорогой у Сковороды уже не было ни желания, ни жизненной необходимости. Последняя попытка удержаться на полосе обыденности уже завершилась харьковским скандалом; да и сама попытка, к слову, вышла лишь по инерции.
В Сковороде произросла совсем иная идея.
У В. Эрна есть хорошее сопоставление Сковороды с Декартом. Как истинный философ Сковорода с жизнью своей проделал то, что хотел проделать с мыслью своей Декарт. Поставив во главу угла сомнение, Декарт методично избавлял свою мысль от господства традиции и предрассудков, вычищал ее от всего наносного, живя одной страстью: оставить мысль наедине с собой.
«Сковорода отважился на нечто более решительное и грандиозное, – пишет В. Эрн. – Он отверг всякое готовое содержание жизни, а не только мысли, и, усомнившись во всех путях, решил прежде всего остаться с самим собою, овладеть своим „я“ и создать себе такую жизнь, которая бы всецело вытекала из чистой идеи его внутреннего существа».
Эрн, правда, следом оговорится – само по себе такое решение было «малосодержательно и малозначительно». Действительно, каждый из нас время от времени принимается судорожно искать согласие между своим внутренним миром и внешним его выражением. Мы настраиваем себя – каждый по своему камертону; крутим душу, как колки у гитары, – лишь бы добиться чистого звучания. Но постоянное напряжение струны нам оказывается, увы, недоступным, и вскоре инструмент оказывается где-то на антресолях, лак на барабане сереет от пыли, а струна дребезжит неимоверно.
Это и отличает нас от «старчика Григория Варсавы». «Сковорода обладал огромной цельностью и непоколебимой последовательностью воли», – пишет биограф. После Харькова начинается не просто тридцатилетний период его странствования. Начинается целая эпоха всматривания, вглядывания в себя, начинается эпоха «философии жизни» в ее непосредственном и цельном практическом выражении. Собственно, начинается «эпоха Сковороды», которая надолго останется в народной памяти, в легендах и рассказах о замечательном и удивительном старце, исходившем вдоль и поперек Украину и Малороссию.
В 1769 году, простившись с Харьковским коллегиумом, Сковорода находит уединение на хуторе Гужвинском, что в десяти верстах от Харькова. Гужвинское принадлежало слобожанским помещикам Земборским, которых Сковорода «любил за добродушие их». «Судя по всему, это были люди не совсем заурядные, – пишет Ю. Барабаш. – Отставной прапорщик Василий Земборский приглашает оклеветанного философа под свой кров, хотя не может не понимать, что ссориться с его гонителями небезопасно. Его сын Иван, учась в коллегиуме, посещал „крамольные“ лекции Сковороды, что наверняка не могло понравиться начальству».
Впрочем, этот страх уже тогда можно было назвать несущественным. Гораздо сильнее была боязнь потерять удивительного человека, не приютить мудрого старца (которому еще и полвека-то не исполнилось) и тем самым отказаться от благодати, от Света.
Уединение Сковороды в Гужвинском вышло замечательным. Место это, как рассказывал М. Ковалинский, было покрыто угрюмым лесом, который спускался к небольшой речке Лопань. Здесь, среди леса, находилась глухая пасека с заброшенной хижиной. Сковорода вообще любил лесные пасеки – и лучшего ему подарка от Земборских не требовалось.
Здесь, «предавшись на свободе размышлениям и оградив свое спокойствие духом безмолвия, бесстрастием, бессуетностью, написал он первое свое сочинение в виде книги, названное им «Нарцисс, или познай себя».
«Это мой сын первородный», – скажет позднее Сковорода. «Это чистый источник его будущих сочинений», – скажет биограф. «Это начало его оригинальной гносеологии», – скажет историк философии. И все трое повторят с Соломоновой притчи: «Разума праведник – себе друг будет…»
О гносеологии Сковороды стоит сказать отдельно – уже хотя бы в свете известного спора о русской философии, которой отказывали и в оригинальности, и даже в самом существовании именно по причине отсутствия в ней стройной гносеологической системы – теории познания. Против критиков и оппонентов очень точно высказался Василий Зеньковский, заметив, что у философии, собственно, не один, а несколько корней, и все ее своеобразие этим и определяется. Поэтому ставить во главу угла теорию познания как признак «зрелости» философии совершенно не обязательно и, может быть, отчасти ошибочно.
«В русской философии есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию познания на второстепенное место, – пишет В. Зеньковский, предваряя свою „Историю русской философии“. – Русские философы склонны к онтологизму… познание признается лишь частью и функцией нашего действования в мире, оно есть некое событие в процессе жизни, а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру».



