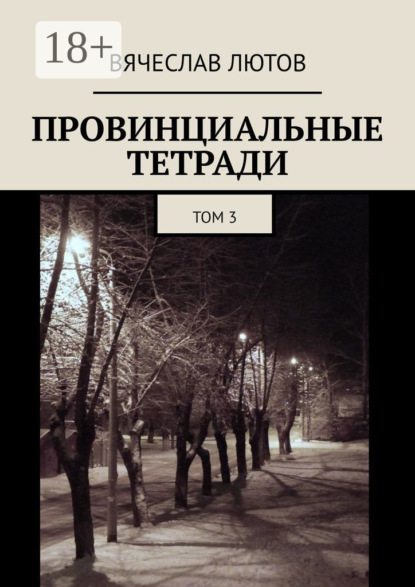
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 3
И ведь кажется – нет ничего проще. Нет ничего проще выйти из мрачной платоновской пещеры с вечно бегущими тенями на холодной стене и больше в нее уже никогда не возвращаться; нет ничего проще в бетонном городском кармане распахнуть настежь окна свежему ветру.
Беседуя с путниками, Григорий расскажет свою «платоновскую сказку», басенку. Жили-были дед да баба. Сделали они себе хатку, да не прорубили в ней ни одного окошка. Невеселая вышла хата. По долгом размышлении решили они свет доставать. Взяли мех, разинули его в самый полдень перед солнцем, чтобы набрать, будто муки, и внести в хатку. Попробовали раз-другой – нет света. Решила бабка, что мех дырявый, и свет из него вытекает, и надобно проворнее и быстрее в дом бежать. В дверях с дедом и зашиблась.
Благо, на тот случай проходил мимо странный монах. «Он имел от роду только 50, но в сообщении света был великий хитрец». Не стал он «секретной пользы утаивать» и посоветовал взять топор и прорубить окошко.
– Целый свет не видел столько бестолковых, как твои дед да бабка! – воскликнет в ответ один из путников. Впрочем, кто бы сомневался…
«Великий хитрец в сообщении света», Григорий Варсава не ограничится «счастьем извне», которое входит в человеческую душу, подобно солнечному лучу. Для Сковороды очевидно, что счастье мало «поймать», его нужно «принять», чтобы оно произросло изнутри. «Зачем мне гоняться за счастьем, – скажет он, – когда оно у меня за пазухою… дома». «Наше истинное счастье… живет во внутреннем сердца нашего мире, а мир в согласии с Богом; чем кто согласнее, тем блаженнее».
«Местоположение» сковородинского счастья сродни «искре божьей» и потаенному «истинному человеку», что «один во всех нас и в каждом целый». Такое толкование, по словам В. Зеньковского, вполне можно принять за «феноменальность человеческого бытия». Впрочем, феноменологических параллелей можно приводить много, да и сам Сковорода с его пренебрежением к «телесному болвану» человека эмпирического и «буклям и кудрям» эмпирического же счастья дает тому немало поводов.
Сковорода каждый раз, в каждом своем диалоге уводит своих путников в глубь человека. Иной ракурс ему просто не интересен. Это путешествие за счастьем не имеет ничего общего с расхожими школьными представлениями – в виде ищущих счастья и не нашедших его некрасовских мужичков, отчасти лубочных, отчасти русских. В своем поиске счастья Сковорода восходит к классическому библейскому сюжету – притче о блудном сыне – и многочисленным его интерпретациям. Выбор более чем показательный: герои Сковороды не столько ищут счастья, идут за счастьем, сколько возвращаются к нему, обретая утраченное.
«Путник, обходя разные земли и государства, лишился ног, – рассказывает Григорий своим собеседникам еще одну поучительную и диковинную историю. – Тут пришло ему на мысль возвратиться в дом к отцу своему, куда он, опираясь руками, с превеликим трудом продолжал обратный путь свой. Наконец, доползши до горы, с которой виден уже был ему дом отца, лишился совсем и рук…» Так и остался бы он между камней мучительно и жадно взирать на благословенный и счастливый край. Но тут он увидел слепца, который шел еле-еле, постоянно сбиваясь с дороги. Разговорились. Слепец тоже излазил полсвета, да счастья так и не нашел, и теперь возвращался к отцу – наугад, в вечной темноте, по наитию. Узнали тогда оба, что они братья. Тогда слепой посадил на шею зрячего, но безрукого-безногого – и зашагал небывалый путник, из двух в одно составленный, к родному порогу…
Можно видеть счастье, но никогда не достичь его, взирая с завистью со стороны, подглядывая за ним в замочную скважину. Можно искать счастье, но никогда не найти дороги к нему. Такова суть рассказанной истории. И все дальнейшее повествование Сковороды есть попытка освободить человека от тщетных, скверных, бессмысленных и пустых желаний и оставить его с руками, ногами и глазами в счастливом краю, из которого, по светской глупости своей, он так пытается выбраться.
Но не дорожат дети мира своими чреслами и ищут разумом не истину, а все новые оправдания своих суетных страстей. И преуспели в этом изрядно. Библейский слог как старый лоскут, и ему не находится места среди модной современной пустологии, блестящей, суматошной, жаждущей крови, прописавшейся в телевизионной сетке, прибравшей к рукам воинствующие племена поэтов, писателей и философов, готовых создать какие угодно стереотипы и «правильные формулы».
Впрочем, и эта печаль биографа, перешагнувшего в электронный век, достаточно стара, как стара еще одна история, рассказанная Сковородой в «Разговоре пяти путников об истинном счастье в жизни».
Пять путников пришли в царство любви и мира, где нет ничего тленного, но все вечное, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. Прошли они под прекрасной радугой, вышли к ним навстречу великим множеством бессмертные жители. Скинули с путников все ветхое и одели в новое тело и одежды. Сели странники у трапезы с ангельскими хлебами и новым вином. Но не веселы среди веселья были путники – некая тайная горесть сердца их угрызала. Отвели их к царю.
– Я прежде прошения вашего знаю ваши жалобы, – сказал он. – Вы сами горесть свою занесли сюда из враждебных земель…
Эта история, столь похожая на «Новую Атлантиду» Ф. Бэкона, была рассказана с одной целью. «Ах бедное наше знаньице и понятьице! – восклицает Сковорода. – Откуда эти бесы вселились в сердца наши?» И отвечает сам себе: «Враги твои суть собственные твои мнения, воцарившиеся в сердце твоем и всеминутно его мучающие».
«Человек – извечная жертва своих же собственных истин. Раз приняв их, он уже не в состоянии от них отказаться», – напишет спустя полтора века один из апологетов экзистенциализма А. Камю. Мир живет обманом и слепыми надеждами. Все силы и цвет человека уходят на «добывание условий» для счастливой жизни, и в этой охоте счастье забывается, теряется, уходит. И вот, на руинах своей биографии, «человек понимает, что провел столько лет лишь для того, чтобы удостовериться в одной-единственной истине» – ему не уйти от времени, которому, собственно, глубоко безразлично: был человек счастлив или нет. Выбора не остается – такова главная печаль и тоска философии ХХ века, вынужденной жить с ницшеанским знанием о том, что «бог умер», «бога нет», и спасать человека некому.
У Сковороды этой смертной экзистенциальной скуки нет, он еще полон решимости указать счастливый путь, он еще уверен, что святая Библия остается «врачебным домом», в котором особым спиртом – евхаристией – лечат горесть человеческого сердца. «Счастье наше есть мир душевный», – пишет он и готов выстроить этот мир заново, собрать все его счастливые крупицы. «Вседражайший сердечный мир подобен самым драгоценным камушкам: одна крошечка цену имеет, если станем его одну каплю щадить, тогда сможем со временем иметь целую чашу спасения».
И все же, всматриваясь в свой век, который жил идеалами прогресса и ел просвещением, он с иронией и грустью напишет: «Мы измерили море, землю, воздух и небеса; мы обеспокоили недра земные ради металлов, нашли несчетное множество миров, строим непонятные машины… Что ни день, то новые опыты и дивные изобретения. Чего только мы ни умеем, чего ни можем! Но то горе, что при всем том чего-то великого недостает…»
За букварем мира
Начало 1770-х годов – счастливая пора в жизни Сковороды, удивительная, как говорит об этом биограф. Философ живет в мирной тишине и уединении у друзей – в частности, у Степана Тевяшова в Острогожске. Острогожское лето 1772 года окажется самым плодотворным – Сковорода напишет шесть философских сочинений, в том числе и «Разговор пяти путников». «Он полон творческой энергии, – пишет Ю. Барабаш, – ему есть что сказать, и он словно торопится выговориться… Это пора жизненной зрелости, какой-то особенной внутренней раскрепощенности, душевного равновесия, расцвета».
В 1775 году отзвуком острогожского лета попадет к Тевяшову-сыну переписанный набело «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира». Этот «дружеский разговор о душевном мире» не только подытожит пятидесятилетие жизни Григория Варсавы, но и станет центральной частью его этики. Метафизика человека, в которую со всей страстью исследователя, искателя окунулся Сковорода, привела его к «тайному закону человеческого возрастания» – тот, кто живет в несогласии со своей природой и не чувствует в делах своих «сродности», обречен на страдания и муки, на вечную тоску по душевному покою, на испепеляющий пламень суетного эмпирического мира.
Сковорода не просто чувствует важность этой идеи. Наряду с самопознанием и идеей «разделения натур» он делает понятие «сродности» краеугольным камнем своей философии. Он также понимает, что поиск «душевного мира» несравнимо шире «счастья».
Сковорода даже меняет тон диалога – здесь уже нет случайных слушателей, которым нужно что-то доказывать, «втемяшивать», чем-то удивлять, подчас резко осаживать. И это правильно: нет смысла спорить о душевном мире – о нем можно лишь тихо говорить с близкими друзьями. К слову, за собеседниками Григория в диалоге стоят его острогожские друзья: Афанасий Панков и Яков Долганский. Поэтому мысль Сковороды не прячется в одном «личном» персонаже, как это было прежде, а разливается по всем. Он даже доверяет высказать свой прежний «полемический» опыт Якову, которому, как когда-то Сковороде, «довелось побывать в гостях и напасть там на шайку ученых», что при бутылках и стаканах «разожгли диспут»: какая наука лучше, какое вино полезнее, кто «погубил республику Афинскую», пока, наконец, не «наврали много о богине Минерве».
– Я не мог ничего понять и никакого вкуса не почувствовал, – признается «слушатель академиков». – А в любезной моей книжечке, которую всегда с собой ношу, недавно вычитал, что счастье не от наук, не от чинов, не от богатства, но единственно зависит оттуда, чтобы охотно отдаться на волю божью…
Это был повод – и весьма основательный – для серьезного и неспешного разговора.
Так легко покориться суетной обыденности, блаженно качаться на ее волнах, гибнуть в ее ураганах, жить с оглядкой на «среду» и печалиться затем, что «среда заела». Мы покорны стереотипам и сиюминутной выгоде, мы несем крест и тянем лямку. И в этом шумном, но немом «прохождении жизни» даже не подпускаем к себе мысль, что покоряемся совсем не тому, чему следовало бы, что единственное достойное человека смирение есть покорность «тайным законам» нашего духа. Этика Сковороды, по словам В. Зеньковского, вполне могла бы стать апологией этой покорности.
«Чем кто согласнее с Богом, тем мирнее и счастливее», – повторит в который раз Сковорода. Он же и определит, что это значит – «жить по натуре», не избирать вместо прозорливой или божественной натуры себе путеводительницей скотскую и слепую. «Природа есть первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина… Природа зажигает к делу и укрепляет в труде, делая труд сладким».
Отсюда своеобразный сковородинский «прагматизм» – зачем хвататься за какую-нибудь должность, место, звание, дело, не зная, будешь ли в этом счастливым? Зачем превращать счастье работы в тягло, повинность – лишь по незнанию своему, по нежеланию заглянуть в себя и услышать голос глубокой и богообразной природы своей. «По сей-то причине искушенный врач неудачно лечит. Знающий учитель без успеха учит. Ученый проповедник без вкуса говорит. С приписью подьячий без правды правду пишет. Перевравший Библию студент без соли вкушает. Во всех сих всегда недостает нечто». Недостает «сродности», «сердца», живой искры.
«Совсем телега, кроме колес», – скажет про таких Григорий Варсава и даже пригрозит, что сам бросит «нынешнее свое состояние» и станет последним горшечником, если почувствует, что жил и философствовал до сих пор «без природы», зато старательно замазывал склонность к низкому гончарству. То же касается и обычной дружбы, человеческих отношений, «связей». «Наше дело познать себя и справиться, с кем обращение иметь мы родились» – и, может быть, тогда станет понятно, что незачем было ходить за «стадами обезьян философских», вечно «зевающих на мирскую машину, но одну только глинку в ней видящих». Сковорода оговорится и посетует: «Хотя /ведь/ чувствовали, что как-то, что-то, чем-то, тайным каким-то ядом жжет и мятежит сердце их, но оно как неосязаемо, так и презираемо было». А дел-то всего ничего – бросить перо и лопату взять, завершить разговор и уйти из чужого дома…
«Нужно только познать себя, куда кто рожден. Лучше быть натуральным котом, нежели с ослиной природой львом…»
«Кто безобразит и растлевает всякую должность? Несродность. Кто умервщляет науки и художества? Несродность. Кто обесчестил чин священничий и монашеский? Несродность. Она каждому званию внутренний яд и убийца…»
«Природа и сродность означают врожденное Божие благоволение, тайный его закон, всю тварь управляющий, – говорит Сковорода своим друзьям. – Какое мучение трудиться в неподходящем для тебя деле». Это мучение становится настоящим пристанищем «беса уныния», который «в треск и мятеж душу обращает», наполняет смертной скукой, печалью и завистью и, наконец, ведет к «безобразным дел страшилищам и собственноручным себя убийствам».
Но кого бы из нас, покрытых блестящей пылью обыденного мира, устрашила такая перспектива? Кто бы взялся искать природу свою, когда даже не разумеем свои просьбы и молитвы? «Просим у Бога богатства, а не удовольствия, – сетует Сковорода, – великолепного стола, но не вкуса, мягкой постели, да не сладкого сна». Словно забыта пословица: не проси дождя, проси урожая.
Басни Харьковские
О пословицах Сковороде не впервой. К той же идее сродности Сковорода «приурочит» немало басен. Одна черепаха, к примеру, чья прабабка вздумала у орла учиться летать да разбилась насмерть, проклинала красоту полета: «Пропади оно летать». Пролетавший мимо орел бросил ей в сердцах:
– Слушай ты, дура! Не через то погибла твоя прабабка, что летала, но тем, что принялась не за свое дело.
Слишком проста истина для нашего сложного интеллектуального времени, слишком низка и простонародна. Хотя для интеллектуалов запишем в своих тетрадках: «Хочешь ли счастливым быть, будь сыт в своей доле», – говорит Сковорода. «Не желай ничего свыше своих сил», – скажет позднее Ф. Ницше. «Люби то, что тебе предназначено», – выведет формулу дивного нового мира О. Хаксли…
«В седьмом десятке нынешнего века, оставив учительскую должность и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии; притом благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен… А сего года в селе Бабаи умножил оные до половины».
Таким письмом открывал в 1774 году Григорий Варсава свои «Басни харьковские», сборник «мудрых игрушек», которые должны были «таить в себе особую силу».
Обращение к «низкому жанру» не было для Сковороды зазорным. Напротив, он словно взялся доказать совершенно обратное – нет иного способа лучше донести до человека глубокий смысл вечных истин, мораль, символически выраженную в ясных и ощутимых образах и ситуациях. Для философа басня и библейская притча тождественны, да и на фоне морально-этических задач, стоящих перед ним, ему нет смысла рассуждать об особенностях жанра.
«Друг мой! Не презирай баснословия! Басня и притча есть то же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня тогда бывает скверна и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины, похожа на орех пустой».
Этот «забавный и фигурный род писаний» был любим и древними философами, мудрецами, и учениками Христовыми, апостолами. Сковорода повторит это не раз и даже определит суть «метода»: «Мудрые и в игрушках умны и во лжи истинны. Истина их острому взору ясно, как в зеркале, представлялась, а они, увидев живо живой образ истины, уподобили ее различным телесным фигурам».
Лавр и зимой зелен; истина, заложенная в басне, не тускнеет и просторечная грязь к ней не прилипает…
Уже немало сковородинских басен было рассказано, рассыпано по нашему жизнеописанию. Обращение к басне – не просто выбор жанра, литературной формы. Бумага как благодатное поле, которое рождает и пшеницу, и рожь, и гречиху. Все произрастает из зерен священного писания; и это поле всю жизнь возделывал Сковорода. Все переплелось в его сочинениях: символический мир Библии и символический мир басни есть то же.
«Библия есть для Сковороды именно книга философских притч, символов и эмблем, некий иероглиф бытия», – писал в «Путях русского богословия» Г. Флоровский, определяя «перемешанный» философский мир Сковороды в «категориях платонизирующего символизма». О символизме как характерной особенности метафизики Сковороды говорили в своих очерках Д. Чижевский и В. Эрн. Немного сдержаннее на этот счет оказался В. Зеньковский – он хотя и признал наличие у Сковороды «символизма в онтологическом смысле», все же определил страсть философа к символам как «манеру мыслить», как особенности слога.
Впрочем, каковы бы ни были оценки, сам Сковорода смотрел на символизм именно как на особый мир, «тайнообразный мир», «маленький богообразный мир, или мирик». Он для философа являлся одной из бесспорных основ метафизики. В конце концов, библейский символизм, аллегоризм оформит систему «трех миров», которая войдет во все классические интерпретации творчества Сковороды.
«Первый /мир/ есть всеобщий и мир обитательный, где все рожденное обитает, – писал Сковорода в диалоге „Потоп змиин“. – Сей мир составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих…»
Сковорода и сам «рисует» Библию, и она меньше всего походит на книгу в кожаном переплете с медными застежками. Он ищет «фигуру Библии», и чаще всего называет ее Сфинксом, тайну которого и блаженную радость может узреть лишь познавший себя. В «Баснях харьковских» Библия предстает в образе спящего льва, вокруг которого носятся обезьяны – «восставшие идолопоклонничьи мудрецы» – носятся до первого львиного рыка.
«Библия есть завет, запечатлевший внутри себя мир божий… она как заключенный сундук сокровища, как жемчуга мать», – пишет Сковорода. А затем, вспоминая «предревних богословов», повторяет свою любимую мысль, говоря об их умении «невещественное естество божье изобразить тленными фигурами, дабы невидимое было видимым». Стоит ли удивляться, что сковородинское восприятие Библии было названо «системой кодов и знаков», а в его творчестве неизбежно определились «семиотические элементы».
Между тем, ограничиться лишь «семиотическими маркерами» на полях философского творчества Сковороды было бы ошибкой. По сути, аллегорический мир – это далеко не прихоть Григория Варсавы. Он семиотичен по определению – как семиотична сама эпоха. Отсутствие собственно философской терминологии, по словам В. Зеньковского, отчасти оправдывает Сковороду за его пристрастие к символам – роль научного термина в суматошную эпоху становления русской мысли могла сыграть лишь аллегория.
Вообще, ХVIII век исполнен символами повсеместно; религиозное, богословское, философское и даже «светское» мышление обращается с символами, как истопник с дровами – и чем больше, тем жарче. Пристрастие к знакам тревожило умы. Сам Сковорода, как пишет Ю. Барабаш, еще в юности прослушал в академии философский курс М. Козачинского, где был раздел «О знаках». Скорее всего, Сковорода был знаком и с «Миром символов» Пичинелли, и с петровским изданием «Символов и эмблем». К слову, большое количество «знаковой» литературы принес конец XVIII века с его тотальным увлечением «символичной философией» – хотя бы в виде «масонской культуры».
Как бы то ни было, символичный, «третий» мир Сковороды – это не издержки индивидуального творческого метода. Это особый «образ эпохи», ее голос, мантры, видения, угол зрения. Обойти этот мир стороной Сковорода не мог – как не смог, к примеру, обойти критику чистого разума русский философский Ренессанс…
Свитка и посох
История, как это ни парадоксально, не слишком бережно относится к судьбе человека, путает даты и факты, подчас стирает их подобно тому, как из памяти компьютера удаляют ненужные файлы и программы. Но образ человека, украшенный всевозможными байками и легендами, для нее все же ценен, притягателен. Биограф, призванный быть беспристрастным, и тот зачастую воспринимает судьбу своего героя импрессионистически. Что ж, в этом есть определенная красота – обычно-человеческая, по меньшей мере.
Во многих домах на Украине висели копии с портрета Сковороды. Вот он, с острым носом, темноволосый, со стрижкой «в кружок», под шапочку, с гладким, почти юношеским лицом, на котором нет ни одной морщины, словно художник нарочно задался целью не подпускать к Сковороде время. Неизменна в народном восприятии «атрибутика» Сковороды: посох странника, серая свитка, сапоги про запас, несколько подшивок работ, Библия, его «невеста», и флейта.
Странник – странный человек. Стоит ли удивляться, что имя Сковороды быстро обросло легендами, преданиями? Оно мифологизировалось – еще при жизни философа, – дополнилось новыми «фактами» и «деталями»; его примеривало массовое сознание к обычным ценностям обычной жизни.
Именно мифологическое сознание, переплетенное с «эротической прозой» человеческой жизни, попытается Григория Варсаву женить. И. Срезневский в своем рассказе «Майор, майор!», этом пыльном раритете начала Х1Х века, выписывая образ русского Сократа, приведет совершено романтическую историю любви. На одном из хуторов, будучи в гостях у некоего майора, Сковорода безумно влюбился в его дочь Елену и настолько потерял голову, что был готов немедленно жениться. Не смутило рассказчика даже то, что Григорию Варсаве к «моменту этой истории» шел уже пятый десяток – совсем не тот возраст, чтобы впадать в подростковый инфантилизм. Да и основные философские взгляды на мир и на вещи в эту пору у него сложились, и дочь майора в эту систему не вписывалась.
Развязка истории будет в духе романтических повестей Пушкина – невеста ждала Сковороду в церкви, а он в самую последнюю минуту сбежал из-под венца.
Не станем дополнительно опровергать самоочевидную нелепость этой истории. К тому же многие исследователи сделали подобное за нас, подчеркивая, что ни романтического аспекта, ни женщин в жизни Сковороды не было, что его жизненная энергия сублимировалась совсем в других формах. Но заметим другое. Бывальщина о женитьбе Сковороды оказалась весьма живучей – некоторые наши современники уже с полной уверенностью заявляют о ней как о биографическом факте и размещают свои «справки о жизни философа» в мировой паутине, подтверждая тем самым, что торжество мифологии над историей становится научно-романтической нормой нашего века.
О Сковороде рассказывали много интересных историй. Например, Г. П. Данилевский в «Украинской старине» пересказывает легенду о том, что Екатерина II, зная о философе, «дивилась его жизни, уважала его славу и однажды, чрез Потемкина, послала ему приглашение из Украины переселиться в столицу». Сковорода ответил в своем духе: «Свирель и овца дороже царского венца». По другой легенде, Григорий Варсава все же встретился с императрицей, но «говорил с дерзкой независимостью».
Молва знакомила или связывала Сковороду с разными известными людьми того времени. Например, со знамениты «пешеходцем» Василием Барским, который странствовал по миру четверть века, прошел Европу, Грецию, Египет, Сирию, долгое время жил на Афоне. Рассказывают, что когда он, больной и разбитый, вернулся в Киев и умер через месяц, на его похороны вышел весь город, в том числе и Сковорода.
Странник странника видит издалека…
«Мысли сердечные: они и не видны, как будто их нет, но от сей искры весь пожар, мятеж и сокрушение; от сего зерна зависит целое жизни нашей дерево», – говорит Сковорода, говорит в том числе и для биографа, который растерянно стоит перед последним двадцатилетием его жизни и не знает, о чем рассказать, как увеселить читателя красочными событиями, какую историю найти, чтобы расцветить серый в своем постоянстве движения образ странника.
Последние двадцать лет жизни философа – удивительно ровное время. Двадцать лет прожиты словно в один день. Здесь нет ничего внешне мятущегося, нет никакой сумятицы, никаких приключений. Нет и никаких впечатлений странника, которые можно было бы записать на бумагу. Это у Василия Барского были Иерусалим и Антиохия, Палестина и Афон, подобно тому, как у Афанасия Никитина были свои три моря. У Сковороды же – роща зелена, обычная хатка да жужжание пчел на пасеке. Нет ничего большого, величественного, ничего значительного и престижного, к чему так стремится турист-путешественник. Не это определяло суть его жизни.



