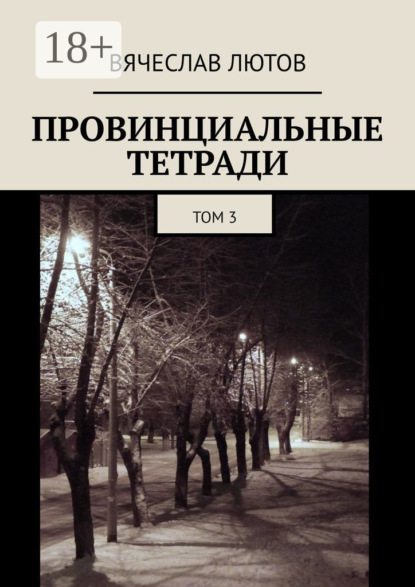
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 3
«Сковорода считал себя пришельцем на земле в полном смысле этого слова, – говорил о своем друге М. Ковалинский и следом приводил сковородинскую географию. – В силу разных обстоятельств он жил у многих… постоянного жилища он не имел нигде… Полюбив Тевяшова, воронежского помещика, жил у него в селе и написал там сочинение „Икона Алкивиадская“, которое и посвятил ему в память о признательности своей к дому этому. Потом имел он пребывание в Бурлуках у Захаржевского, из-за приятных природных видов жил у Щербинина в Бабаях, у Ковалевского в Ивановке, у друга своего в Хотетове, некоторое время в монастырях Старо-Харьковском, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском и прочих».
Он живет также у Земборских в Гужвинском, у Сошальских в Гусинках, бывает в Китаевой пустыни близ Киева. «Его жизнь, – пишет биограф, – принимает вид постоянных переходов, хождений пешком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, которых он любил и которые гордились его посещениями».
Сердечные мысли и без того невидимы, чтобы их еще прятать за блестящими безделушками суетного мира. «Сковорода мог бы составить себе подарками порядочное состояние, – пишет еще один биограф философа В. Гесс де Кальве, и пишет, подчиняясь мирским интересам, печалясь за утраченные Сковородой возможности. – Но что бы ему не предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывал, говоря – дайте неимущему, и сам довольствовался серой свитой».
«В крайней бедности, – продолжает В. Гесс де Кальве, – переходил Сковорода по Украине из одного дома в другой… Никто во всякое время года не видал его иначе, как пешим. Также малейший вид вознаграждения огорчал его душу… Он обыкновенно приставал к убогой хижине пасечника. Несколько книг составляли все его имущество».
Тихим было его пребывание у друзей. М. Ковалинский рассказывал, как Григорий Варсава гостил у Сошальских: «Усталый приходил он к престарелому пчелинцу, недалеко живущему на пасеке, брал с собой в сотоварищество любимого пса своего и трое, составя общество, разделяли они между собой «вечерю».
Странная жизнь странного человека. Чем занят, что делает? В одном из писем он подробно – и мы вслед за ним – ответит, словно пожелает раз и навсегда пресечь досужие разговоры и расспросы.
«Ангел мой хранитель ныне со мной веселится пустынею. Я к ней рожден. Старость, нищета, смирение, беспечность, незлобие суть мои в ней сожительницы. Я их люблю, и оне мене…
Недавно некто о мне спрашивал: скажите, что он там делает? Если б я в пустыне от телесных болезней лечился или оберегал пчел, или ловил зверя, тогда бы Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я празднен и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее гор Кавказских.
Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воевать, портняжить, строиться, ловить зверя? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна причина нашей бедности: погрузив все сердце наше в приобретение и в море телесных надобностей, мы не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить и поврачевать самую госпожу тыла нашего – душу нашу…
Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, как у шкробутика или подагрика ноги; она в нас расслаблена, грустна, своенравна, боязлива, завистлива, жадна, ничем недовольна, сама на себя гневна, тощая, бледная, точно пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа если в бархат оделась, не гроб ли ей бархат? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей?
Если /душа/ изныет и болит, кто или что увеселит ее? Ах, государь, плывите по морю и возводите очи к гавани. Не забудьте себя среди изобилий ваших. Не о едином хлебе жив будет человек. О сем последнем ангельском хлебе день и ночь печется Сковорода…»
Таков род его занятий. И если Сковороду, по словам Ковалинского, лишь немногие знали таким, какой он есть на самом деле, то глубину его работы чувствовали и связывали с уникальным русским явлением религиозной жизни – старчеством. Тот же И. Срезневский, напечатавший свою повесть в 1836 году в «Московском наблюдателе», «придумает» примечательный диалог:
– Что же, – спросил Сковороду майор, – ты хочешь век остаться бродягой?
– Бродягой – нет, – ответил Сковорода. – Я странствую, как и все, и старцем навсегда останусь; этот сан как раз по мне…
Старчество становилось ключевым в восприятии образа Сковороды-странника.
«На Украине, – рассказывает А. Хиджеу в „Сковородинском Идиотиконе“ (В. Эрн назовет эти разъяснения „драгоценными“), – ведется особый, почти наследственный цех нищих, называемых старцами. Они пользуются большим уважением у простого народа и сами отличают себя от обыкновенных нищих-дедов и Жебраков. Это люди бывалые, носители народной мудрости. Я был свидетелем спора двух старцев. Я старце, а ты-то какой-нибудь найденыш… И теперь поселяне часто ссылаются на суд старцев, и в некотором отношении их можно бы назвать бродящими судьями Мира».
Со Сковородой это суждение соотносимо, но ничуть не до конца, чтобы ставить итоговую точку.
«Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного». И эти наставления старца Зосимы соотносимы со Сковородой лишь отчасти. А «старцы» Достоевского, «берущие вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю» – не соотносимы вовсе.
Мемуаристы рассказывают, что Сковорода имел большое влияние на людей, мог укротить даже крайне вспыльчивый нрав. В своих письмах, если с кем успеет подружиться, он жаждет беседы, наставляет, утешает и вдохновенно проповедует Христа. И не только в письмах. «Он был жарким собеседником и красноречивым оратором, – пишет В. Эрн, – умел незаметно входить в разговор, пересыпая речь шутками, брать нить беседы в свои руки и делать ее неожиданно значительной и памятной».
«Простой народ был ему ближе, ибо из него он вышел и к нему возвратился», – продолжает Эрн и цитирует философа: «Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа?»
О простонародном образе жизни пишет и Ф. Лубяновский: «Страсть его была – жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор. Везде и всеми был встречаем и провожаем с любовью, у всех он был свой. Хозяин дома, когда он входил, прежде всего, всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, почистить, переменить в его одеянии и обуви: все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод, где он чаще и долее оставался, любили его, как родного. Он отдавал им все, что имел: не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласия, неправду, нетрезвость, недобросовестность».
И все же странствующим «народным философом» Сковорода не стал. Непонимание и сам чувствовал. «О мне говорят, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть светоча; на меня острят, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу: пускай острят. Они знают свое дело, а я знаю мое и делаю мое, как знаю, и моя тяга мне успокоение…»
В начале Х1Х века станет популярным еще одно суждение о Сковороде. Словно подводя итог досужим разговорам, товарищ И. Срезневского Орест Ивецкий выступит в 1831 году в «Телескопе» с письмом по поводу Сковороды: «Он есть отпечаток настоящего малороссийского юродивого, которых не столь удачные осколки можно встретить в этой стороне довольно часто. Однако ж он нередко терял и этот свой первообраз и доходил состояния, в коем, по пословице, ум за разум заходит…»
Все переплелось, перемешалось в Сковороде – и это к лучшему.
Сковорода вошел в русское старчество, но старцем не стал. В нем год за годом укреплялся аскет, но не укреплялся инок. Он был народен и вместе с тем странен для народа. Он ходил нищим странствующим мудрецом, но в «мандрованных дядьках», которых так много было на Украине, не растворился. Мир похвалил его за сумасшествие – благо, что не поймал.
Кто он, старец Григорий Варсава?..
Сковородинские тени
«Что такое жизнь? – спрашивает Сковорода. – Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти». Много позднее Лев Шестов повторит, что человек должен научиться жить в неизвестности. Именно неизвестность была и остается прерогативой свободного человека.
Сковорода был удивительно свободен – и в жизни, и в мысли. Эту свободу ставят во главу угла творчества философа и В. Эрн, и В. Зеньковский, и целый ряд исследователей. Эта свобода, и, прежде всего, свобода религиозная, не может не пленять, не завораживать, не будоражить воображение биографа, чья жизнь течет между книжным шкафом и экраном монитора на рабочем столе. «Дух свободы имеет в Сковороде характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума», – пишет В. Зеньковский и называет его свободным церковным мыслителем, который всегда чувствовал себя членом церкви, но твердо хранил свободу мысли. «Всякое стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды».
«Философствование во Христе» в пику «мудрствований мертвых сердец» будет воспринято более чем неоднозначно. Со «спящими на Библии церемонистами», упрекавшими Сковороду в ереси и богохульстве, – дело понятное и уже нам известное. Их не могло устраивать, что философ не принял обычных «условных церковных схем», какие нивелируют пытливые умы, а вместо того, «прикрывшись Библией», принялся мыслить по-живому, что у многих перехватывало дыхание от его резких суждений.
Совершенно иной разговор о тех, кто если и не назвал Григория Варсаву «расколоучителем», то как минимум записал его в сектанты.
В 1912 году в Петербурге вышло собрание сочинений Сковороды, вышло в весьма примечательной серии: «Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества». Этим подводился итог достаточно распространенному мнению о сектантской душе Сковороды.
В. Бонч-Бруевич, готовивший это издание, сообщал в одном из писем (цит. по Ю. Барабашу): «Когда я занимался изучением древнего сектантства в России и очень подробно изучал все устные и письменные записи духоборцев, то я натолкнулся на целый ряд положений, которые были взяты из сочинений Сковороды. Кроме того, видно, что у них сохранилась память о старчике Грише, который был „полного разума“. Имейте в виду, чтобы получить от духоборцев наименование „полный разум“, надо быть особо выдающимся человеком. За всю долгую историю они этим именем называли всего пять человек».
«Имя Сковороды у молокан считается чуть ли не Апостольским», – констатирует другой исследователь, Ф. Ливанов. «Общего у Григория Сковороды с духоборами было так много, что, в известном смысле, его можно назвать богословом духоборчества как религиозного движения», – продолжают традицию некоторые современные исследователи и даже (надеемся на грамматическую ошибку) мифологически переводят восприятие в фактографию: «Именно Григорию Сковороде духоборы доверили составить изложение своего вероисповедания».
Точек пересечения философского творчества Сковороды с сектантской идеологией, действительно, много. «Духовные христиане» видели в Сковороде своего провозвестника по целому ряду причин, и отождествления идей здесь принципиальны.
Духоборам, как пишет о том Н. Бердяев, была чрезвычайно близка идея отрицания человека как «самобытного бытия». Все человеческое есть лишь оболочка, скорлупа от ореха, тень. «Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон», – цитируют они Сковороду. Им ненавистен «содомский человек из плоти и крови и будто из брения и грязи горшок». Что есть человек? – спрашивают они и возвращаются за ответом к Сковороде, выбирая, собственно, лишь то, что хотят услышать:
Он «шевелится и красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цитерия; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот; щупает, как безокий; гордится, как безумный; изменяется, как луна; беспокоится, как сатана; паучится, как паучина; алчен, как пес; жаден, как водная болезнь; лукав, как змий; ласков, как крокодил; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; рассыпчив, как прах; исчезает, как сон…»
«Не мешкай на содомских улицах», – учил Сковорода, и духовные христиане уходили из культурной и социальной жизни, бежали от грехов цивилизации в поисках божественной красоты. Прав Н. Бердяев – Русь странническая может легко превратиться в Русь сектантскую.
«Одно только для тебя нужное, одно же только и благое – Бог», – говорил Сковорода. Бога в свое сердце вовсе селить не нужно – он и без того изначально в нем живет. Посмотри внутрь себя и увидишь. И это тоже импонировало «духовным христианам». Они всегда будут благодарны старцу Григорию за то, что тот Богом их не «пугал», не видел в нем карающего меча, не шел по византийской традиции за Спасом-Ярое-Око, отдав предпочтение глубоко человеческой сыновней любви к Нему.
Современные духоборческие «апокрифы» примечательны. «Григорий Сковорода благовествовал людям Божие благоволение и счастье иметь Бога Царем своего сердца. Он и сам живым примером, своею жизнью являл народу счастливого человека, человека молитвы, веры и светлого разума… Те места, по которым прошел этот великий Божий человек, станут в свое время очагом евангельского пробуждения…»
Источник неиссякаемого счастья видели в Боге и хлысты, которые, в противовес духоборам, искали не столько правду, сколько радость и блаженство. «Эпикурейский Христос» был для них подлинным открытием. Глубокий мистический смысл видели они и в ахтырском происшествии Сковороды, в его «счастливой экзальтации в честь избавления от киевской чумы».
Сковорода и своим учением, и своей жизнью словно удовлетворял «глубокую мистическую жажду, заложенную в русском сектантстве». И хотя Бердяев имя Сковороды не называет, но его дыхание подкожно чувствует. Поэтому и рассказывает, как несколько лет жил в деревне в Харьковской губернии, где по соседству какие только секты не расположились. «Я много беседовал с этими людьми, и некоторые духовные типы запомнились мне навеки. Знаю твердо, что Россия немыслима без этих людей, что без них душа России лишилась бы самых характерных, существенных и ценных своих черт».
Харьковская губерния – «сковородинское пристанище и подорожье» – по духоборам, места святые…
«Бесцерковный аскетизм был пробуждением мечтательности и воображения, – пишет вслед своим заметкам о Сковороде Г. Флоровский. – Развивается какая-то нездоровая искательность духа, мистическое любопытство. Вторая половина XVIII века вообще отмечена каким-то мечтательным и мистическим подъемом в народных массах. Это было время развития или возникновения всех основных русских сект: хлыстовства, скопчества, духоборства, молоканства».
Сковороду можно зачислить и в народные массы, и в интеллектуальную элиту своего времени, которую все же меньше всего нужно судить по одежке. Стоит ли удивляться, что откровения Григория Варсавы, пусть и опосредованно, были причислены еще к одной «святой когорте» – к масонству, к масонскому опыту, который дал «много новых и острых впечатлений рождавшейся тогда русской интеллигенции».
В екатерининскую эпоху масонство вслед за просвещением широкими волнами разливалось по России, которая словно устала от святоотеческих откровений и церковной мистики и теперь ждала обновления из «частных» и «светских» рук. Не будь Сковорода столь простонароден и нетитулован, его бы, философа-мистика и философа-странника, записали бы в апологеты русского масонства. К тому же выходцы из Киевской академии в масонах были – достаточно вспомнить Семена Гамалею, «совесть московского масонства», близкого друга Н. И. Новикова.
Повторимся: масоном Григорий Варсава не был. Сегодня это признают все биографы и не видят смысла оспаривать этот факт. Наряду с этим по страницам исследований разбросана и так любимая исторической беллетристикой лукавая условная фактография – Сковорода, возможно, читал Вейгеля, Якоба Беме, Сен-Мартена. Затем эта «возможность» перерастает в уверенность – не мог не читать. Благо, сам путешествовал по Европе; благо, в России появилось множество книг европейских мистиков. Тот же Гамалея перевел 22 тома сочинений Я. Беме.
Как бы то ни было, Сковорода о масонах слышал, но ничуть не проникся ими – закрытость и обособленничество, «игра в религиозный культ» не притягивала, не отвечала его образу мысли. М. Ковалинский совершенно однозначно разводит Сковороду с мартинистами по разные стороны. Он вспоминал, как однажды разговор зашел о сектах.
– Всякая секта, – говорил Сковорода, – пахнет собственностью, а где собственномудрие, там нет главной цели и главной мудрости. Я не знаю мартынистов, ни понятий, ни учений их; если они обособляются в обрядах и правилах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу их знать; если же они мудрствуют по простоте сердца своего, чтобы стать полезными гражданами общества, то я почитаю их; но для этого им не следует обособляться… Закон природы, как самый нужный для человеческого блага, есть всеобщий, и он запечатлен в сердце каждого, дан всякому существу, даже последней песчинке.
«Человек обособляется? Да и бог с ним, пусть обособляется!» – скажет позднее в сердцах Ф. М. Достоевский. Обособленничество – как сухая ветка на дереве: не нужны ей ни листья, ни солнце, ни благодатный дождь, лишь скрипит на ветру – скоро ли падать?
Сковорода, без тени сомнения отождествивший масонов с хлыстами и любой другой сектой, завершит разговор жестко и емко:
– Любовь к ближнему не имеет никакой секты: на ней висят все пророки и весь закон…
Григорий Варсава в том мистическом и религиозном горниле был со всеми, но ни с кем не остался. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – таким его и воспринимали. Но это и показательно. По сути, столь значительное разночтение философского творчества Сковороды есть свидетельство «хаоса рождения» русской мысли. В этом хаосе не предсказуемы ни повороты, ни итоги, ни идеи, ни слова; в нем невозможно добиться однозначности, ясности, логики, системы; оно не ищет сторонников и последователей, предоставляя каждому двигаться куда глаза глядят: по бездорожью. Но кто бы стал в сковородинскую эпоху мостить философскую улицу – дай бог камни собрать.
Мистицизм Сковороды вкупе с его простонародным прагматизмом – лишь всполохи зари, где все невесомо, зыбко. И мысли щелкают, как в счетчике Гейгера – не проявляясь четко, но возбуждая. И уже так ощутимо, что молодая русская мысль – тот лев, которому осталась лишь секунда до пробуждения…
Сны странника
В 1788 году Сковорода подарил М. Ковалинскому еще одну книжечку: «Брань архистратига Михаила с сатаною: Легко ли быть благим?» Он писал ее пять лет назад, вначале в Буркулаках, затем в Бабаях. Подписался по «заочному знакомству» – старец Варсава Даниил Мейнгард. Сделал и важное признание: «Сие видение я, старец Даниил Варсава, воистину видел. Написал же в просвещение невеждам блаженным оным: «Дай премудрому повод…»
Видел Григорий Варсава, как сатана на крыльях летучей мыши поднялся к пределам атмосферы, окинул ночным глазом лучезарный дом и возопил:
– К чему сей дом сотворен?
Ему навстречу вышел со златыми крыльями архистратиг, «над вождями вождь», Михаил:
– О враг божий! Почто ты здесь? И что тебе здесь?
А у сатаны-то и других дел не было, кроме одного вопроса – того самого, что лежит в основе метафизики Сковороды. Говорил сатана, что, однако, претрудно быть жителем небесным, не каждому дано пройти испытания, человеку в силу его характера не бывать в чертогах небесных. Оттого-то опустошены небеса – благим быть трудно. И как бы мы ни старались, не пролезть нам в это царство.
Слышал Григорий Варсава, как сатана пел свои блудогласные песенки:
Жесток и горек трудБыть жителем небес.Весел и гладок путь —Жить, как живет весь мир.Архистратиг Михаил не стерпел, крикнул на «сатанинский догмат»:
– Это удочка, всех уловляющая! Это ключ, все врата ада отрывающий. Это соблазн, всем путь на небеса оскорбляющий! О украшенная гробница царская, полная мертвых костей и праха, мир блудословный! Прельщаешь старых, молодых и детей. Вяжешь в прелести, как птенцов в сети!..
И, подняв молниевидное копье, поразил алмазным острием сатану в самое сердце его и поверг его в облако вечернее.
Видел Григорий Варсава, как вкруг Михаила собрались ангелы и смотрят с лучезарных высот вниз на грешную землю. Вот по ней идет бедный страдалец, сребролюбец, весь обременен мешками, сумками, кошельками, как навьюченный верблюд, – и каждый шаг ему мукой.
Пусть я в свете скверен – только был бы богат.
Сейчас не в моде совесть, но злато идет в лад.
Как нажил, не спросят, только бы жирный был грош.
Поет так, будто выпал из нашего «новорусского» времени, где блаженны богатые, ибо «их есть царствие всяких утех». Идет не один – «сей беспокойный путь толпами людей, как торгами, засорен».
Видел Григорий Варсава глазами ангелов странное зрелище – пять человек бредут в преобширных плащах, на пять локтей по пути волокущихся. На головах капюшоны. В руках не жезлы, но колья. На шее каждого по колоколу с веревкой. Сумами, иконами, книгами обвешаны. Едва-едва движутся, как быки, колокол везущие.
– Сии суть лицемеры, – говорит Рафаил, – мартышки истинной святости: они долго молятся в костелах, непрестанно псалтырь барабанят, строят церкви и снабжают, бродят поклонниками по Иерусалимам, по лицу святы, по сердцу всех беззаконнее. Сребролюбивы, честолюбивы, стастолюбивы, ласкатели, сводники, немилосердны, непримиримы, радующиеся злом соседским, полагающие в прибылях благочестие, целующие всяк день заповеди господни и за алтын оные продающие… Вся их молитва в том, чтобы роптать на Бога и просить тленности.
Их тягучая песня тоже слышна:
Боже, восстань, что спишь?Почто о нас не радишь?..Мы ж тебе святилища ставим,Всякий день молитвы правим!И забыл ты всех нас…Видел Григорий Варсава и сам себя и слышал, как он нем ангелы говорят. Вот идет странник, шествует с жезлом веселыми ногами, почивает то на холме, то при источниках, вкушает пищу беспритворную, спит сладостно и теми же божьими видениями во сне и вне сна наслаждается. «День его – век ему и есть как тысяча лет, и за тысячу лет нечестивых не продаст его. Он по миру больше всех нищий, но по Богу всех богаче».
– Он один нам есть милейшее зрелище, паче всех содомлян. Мы же его познали. Сей есть друг наш Даниил Варсава…
«Нужное» и «трудное» становится своеобразным философским камнем преткновения позднего Сковороды. Он интуитивно чувствует, что именно эта проблема лежит в основе этики, нравственной теологии, определяя поведение человека, его устремления и чаяния. Она является незримым мостом между религиозностью и светским миром; она призвана взрастить в человеке зерна божественных заповедей. Именно она должна разрушить стереотип о мучительной трудности жить в боге, гореть изнутри Божьим светом, быть благим.
Сатана перековал нужное на трудное и тем осквернил Христово благоухание. Отсюда, по Сковороде, то зло, которое прорастает в человеке и пагубой разливается вокруг него. «Поет Христос: «Нужное есть царство божье». Дьявол подпевает: «Трудное есть царство божье».
В этой «песне» – все оттенки философского поиска Сковороды. «Нужность с трудностью так не вмещается, как свет со тьмою, – пишет философ. – Нужно солнце – трудно же ли? Нужен огонь, а труден ли? Нужен воздух, но труден ли? Нужна земля и вода, и кто без нее? Видите нужность? Где же при боку ее трудность? Ах, исчезла! Нет ей места в чертогах непорочной и блаженной нужности!..»
Но разве человек слышит кого-нибудь? Его воля жаждет преодолевать трудности и снова создавать их в круговерти суетного мира. Его безволие ведет по течению – куда закрутит. Его своеволие не желает иного букваря, иного алфавита, кроме того, что уже затерт до дыр искушенным светом.
Да нужно ли это? «В аду все делается то, что не нужное, что лишнее, что не надобное, не приличное, противное, вредное, пакостное, гнусное, дурное, непригожее, скверное, мучительное, нечестивое, богомерзкое, проклятое, мирское, плотское, тленное, ветреное, дорогое, редкое, модное, заботное, разорительное, погибельное… и прочий неусыпающий червь…»
Да не пожрет меня бездна мирская…
Соотношение «трудности» и «нужности» в творчестве Сковороды не было однозначным, оно переживало свою эволюцию. В «Баснях харьковских» есть одна примечательная история. Однажды змею, сбросившую по весне кожу, увидел Буффон, жаба. Отвечая на вопрос, как же так удалось преобразиться и омолодиться, Змея привела Буффона к узкой расщелине между камней:



