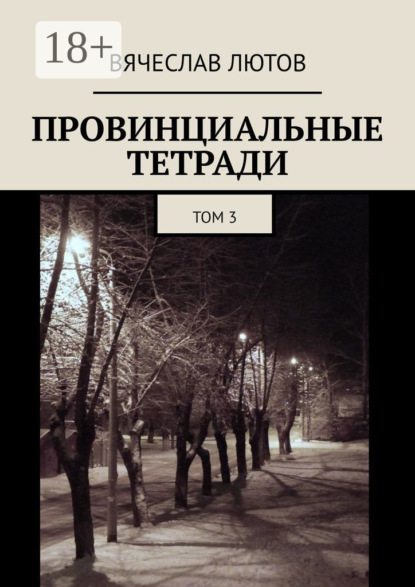
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 3
«Монахи-старцы, – пишет Ковалинский, – переменились в лице, слушая это; но колокол позвал их, и они поспешили на молитву…»
Поведение Сковороды – это меньше всего «богоборчество». Да и не могло прийти на ум верному ревнителю Христа подобное отрицание. Другой разговор, что мы видим в его поступках некое «культоборчество», противодействие той внешней стороне христианства, которая не могла «прельстить» и никогда не прельщала своей формой, своей семиотикой ищущего «простую глубину» Сковороду. В конце концов, было бы ошибкой говорить даже о «легкой антицерковности» Сковороды – ибо не церковь порочна, а люди в церкви. Григорий Варсава, может быть, и хотел бы их исправить, но…
Впрочем, Сковорода оказался не одинок в своих воззрениях, и это подробно отмечает Ковалинский. На следующий день после «печерского случая» к философу подошел один из монахов, отец Каллистрат, обнял его и сказал:
– О мудрый муж! Я и сам так мыслю, как ты вчера говорил перед нашей братией, но не смел никогда следовать мыслям миом. Я чувствую, что я не рожден к этому черному наряду и введен в него одним видом благочестия, и мучу свою жизнь. Могу ли я?..
Сковорода отвечал:
– От человека не возможно, от Бога же все возможно…
Сны сквозь замочную скважину
«Глупый ищет места, а разумного и в углу видно…»
Как-то королевский Изумруд упрекнул своего собрата Алмаза: что же не думаешь ты о чести и погребенным в пепле живешь, к чему твое сияние, если оно не приносит удивления взору? Алмаз отвечал: «Наше с видного места сияние питает мирскую пустославу. А мы лишь слабый небес список. Цена наша, или честь, всегда при нас и внутри нас».
Изумрудная дымка сна развеется, но подслушанный «разговор» останется. И в справедливости этого разговора Сковороде придется очень скоро убедиться.
Последний харьковский «богословский шум» вокруг Сковороды поднимется в конце 1766 года. К тому времени уже сменится несколько епископов, харьковский коллегиум переживет «кадровую бурю». И не попадаться бы в этот водоворот личных амбиций и притязаний, но все сложится иначе. Григория Варсаву все же уговорят вернуться, не без помощи генерал-губернатора Щербинина, – и он кроме поэтики будет читать курс катехизиса в Дополнительных классах.
Поводом для «теологических распрей» послужит небольшая работа Сковороды, которая впоследствии будет открывать его сочинения; даже не работа, а нечто вроде конспекта лекций – «Начальная дверь к христианскому добронравию», написанная для молодого шляхетства Харьковской губернии.
Ее идея проста. Сковорода толкует десять христианских заповедей. Вот только делает это не в традициях ортодоксального богословия, а по-философски, «по мысленному произрастанию». «Начальная дверь», по сути, и станет тем алмазом в пепле – именно здесь Сковорода выскажет свои любимые мысли, так долго носимые им в душе и не находившие выражения. Здесь будет выточен ключ к пониманию Сковороды, к главным основам его философского мировоззрения. Мы лишь подержим этот ключ в руках, а дальше пусть каждый сам свою дверь открывает…
«Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал не трудным, а трудное – ненужным. Нет слаще для человека и нет нужнее, чем счастье; нет же ничего и легче этого. Царствие божье есть внутри нас. Счастье – в сердце, сердце – в любви, а любовь же – в законе вечном…»
«Что же есть одно единое? Бог. Вся тварь есть рухлядь, смесь, сволочь, сечь, лом, крушь, стечь, вздор, и плоть, и плетки… А то, что любезное и потребное, есть едино везде и всегда. Но едино все горстью своею и прах плоти твоей содержит… Бог и счастье – недалеко они. Близко есть. В сердце и в душе твоей…»
«Весь мир состоит из двух натур: одна – видимая, другая – невидимая. Видимая натура называется тварь, а невидимая – Бог…»
«Важнейшее дело божье есть: одну беспутную душу оживотворить духом своих заповедей, чем из небытия произвести новый земной шар, населенный беззаконниками…»
«Закон божий есть райское дерево, а предание – тень. Закон божий есть плод жизни, а предание – листвие…»
С этим и пойдет Григорий Сковорода в свое долгое странствие и ни одному из высказанных когда-то заветов не изменит. К слову, почти через 15 лет он вернется к «Начальной двери», перечитает заново и обновит ее, подобно как новой краской покрывают старые доски.
Но пока подобное «вольнодумие» не осталось незамеченным и вызвало неудовольствие нового епископа Самуила Миславского. Для Григория Варсавы, кстати, не такого уж и «нового» – бывший однокашник, как-никак. Миславский с достопамятных времен всегда уступал Сковороде и в знаниях, и в подвижности ума – «как ни старался». Теперь же повод вышел – и епископ счел подобные рассуждения о Боге и божественном в устах светского человека, не желавшего «стричься», за «похищение власти и преимуществ своих» и «разгневался на него гонением».
Была здесь и личная обида, и сам Сковорода дал епископу «бунтовской повод». Ведь говорил определенно: «Весь мир спит, да еще так спит, как сказано о праведнике: аще падет, не разобьется… Спит глубоко протянувшись. А наставники, пасущие Израиля, не только не пробуживают, но еще поглаживают…»
Сковорода, защищая свою книгу, дает хорошую отповедь: разве шляхетству, которое из детского недомыслия уже выросло и жаждет думать, «прилично иметь мысли о верховном существе, какие есть в монастырских уставах и школьных уроках»? Но Миславскому ничего не докажет – да и хотелось бы, как говориться, ноги ломать…
Впрочем, вся эта история замешана, по большому счету, не на «расхожем богословии», да и иные «диспуты» были куда горячее. Дело – в непохожести, в оригинальности, в «выпадении из всемства».
Стоит ли удивляться, что из Харьковского коллегиума Сковорода выпадет и подавно?..
Портрет со стороны
Каким видело Григория Сковороду молодое харьковское шляхетство? М. Ковалинский охотно и подробно рассказывает об образе жизни Сковороды в Харькове:
«Отличный образ его мысли, учения, жизни скоро обратили на него внимание тамошнего общества. Одевался он пристойно, но просто; имел еду, составленную из трав, плодов и молочных блюд, употреблял ее вечером, после захода солнца; мяса или рыбы он не ел не по суеверию, но по своей внутренней потребности; для сна он выделял времени не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады. Всегда весел, бодр, легок, подвижен, воздержан, целомудрен, всем доволен, благодушен, унижен перед всеми, словоохотлив, когда не принужден говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей; посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил друзей по сердцу их, имел набожность без суеверия, ученость без кичливости, обхождение без лести…»
«Сковорода, держась приличия того лица, которое он избрал представлять в театре жизни, всегда сторонился знатных особо, больших обществ и чиновных знакомств, – продолжает Ковалинский. – Любил бывать в малом кругу непринужденного обращения с людьми откровенными. Предпочитал чистосердечное обращение больше всех ласкательных приемов, в соображениях всегда занимал последнее место, ниже всех, и неохотно начинал беседу с незнакомыми, кроме простолюдинов…»
Такое поведение целиком было оправдано природной философией и природным мышлением Сковороды. Он, по сути, получил огромное преимущество перед остальными, отказавшись от того, что составляет смысл и сущность их жизни, отказавшись от ежедневной суматохи и сутолоки в поисках новых богатств и знакомств, от теплых и доходных мест и почестей, соответствующих чину. Эти «задачи» не входили в круг его мысли, а потому оставались шелухой вокруг зерна, как шелухой остается и всякого рода экстравагантность, эпатаж, выставка.
Скорее всего, Сковорода мешал совести многих и мышлению многих; он был неудобен, непонятен, неповторим, независим. Немудрено, что «ложь и порок вооружили на него орудия свои…»
Философ не питал иллюзий, что его жизнь в Харькове окажется спокойной. И дело даже не в случайных глупых шпильках, бесконечных комарах, что тучами поднимаются из мокрой травы. На колкости и сплетни Сковорода не обращал внимания (точнее, старался не обращать) и даже говорил Ковалинскому: «Я очень доволен, что не нравлюсь таким мерзавцам. Поверь мне: похвально не нравиться дурным. Злословят ли они или негодуют, ты упорно продолжай идти по пути добра, а прочему не придавай значения и презирай их, как болотных лягушек…»
Между тем, не придавать значения можно было лишь до поры до времени. Злословие в адрес Сковороды становилось все сильнее. Вообще, 1768—69 учебный год, по словам Ю. Барабаша, стал «кульминационным моментом травли Сковороды». На первые роли, как и следует в подобных «богословско-философских ситуациях», вышли обвинения в ереси.
За примерами далеко ходить не нужно. Только назовет Сковорода золото, серебро и прочие драгоценности вредными и ненужными, как тут же его объявят богохульником: ибо создавая мир, Бог не мог сотворить ничего вредного, во всем есть божий промысел и польза. Не желает Григорий Варсава вкушать вина и мяса, осуждая их употребление, – и вот уже готов упрек в манихействе. Сторонится философ людей и скрывается от них – чем не повод упрекнуть в человеконенавистничестве и в отступлении от предписанной любви к ближнему.
Мы, по сути, еще даже не коснулись ни одного его религиозно-философского тезиса, а «логика клеветников» уже готова сжечь Сковороду за еретические взгляды.
В конце концов, Сковорода все же не выдержит и напишет своему другу Василию Максимовичу такое письмо:
«Вы, друг мой, думаю, поверите, сколь злобных я имею оглагольников. Если бы они обычные мне беззакония приписывали, сносно бы было. Но сии немилосердники столь неограниченным дышут на меня языковредием, что кроме чрезвычайной моих нравов порчи, от них проповедуемой, делают меня душегубителем, или еретиком, и по сей причине запрещают подкомандным своим слушать мои разговоры. Сего я не терпя, сделал краткое очищение, которое вам, другу моему, посылаю. Оно хотя лаятельных их челюстей заградить не может, однако, думаю, понесколько сделает косноязычными, дабы незлобивые и правые сердца меньше от сего соблазнов претерпевали…»
13 апреля 1769 года, как следует из донесения директора классов, Сковороду рассчитают – выдадут «заслуженного жалования дватцать три рубли» и отправят на все четыре стороны. Теперь он оставит Харьковский коллегиум уже навсегда, и своим уходом «закроет» целую эпоху свой жизни.
Человеческая память избирательна и легко расстается с различными неурядицами. Харьков, этот тогда еще молодой полковой город Слободской Украины, в сердце Григория Варсавы поселится навсегда, он станет той самой «любовью к месту», которая не проходит с годами, а любые путешествия и странствия лишь подчеркивают ее красоту и питают ее силу.
Из Харькова Сковорода вынесет еще одну любовь – искреннюю и глубокую дружбу с Михаилом Ковалинским…
Сон кузнечика
Все, что происходит в нашей жизни, в ее суетной ежедневности, мы привыкли называть стечением обстоятельств. В этом нет особого лукавства, да и под обстоятельства можно записать все, что угодно: и случайную встречу, и опоздавший автобус, и падение курса рубля, и плохое настроение начальства, и внезапно приехавшую тещу, и вместе с тем случайно разлитое Аннушкой масло – обстоятельство, до самого последнего момента не имевшее для булгаковского героя никакого судьбоносного значения.
В этом смысле, встреча Михаила Ковалинского со Сковородой в начале 1760-х годов могла бы остаться одной из всевозможных встреч, которые теряются в памяти уже через пять минут. Встреча – воля случая; все дело в том, насколько эта воля слаба или сильна, насколько она «устала» от броуновского движения, так бесполезно сталкивающего людей между собой.
Внешне, в этой встрече не было ровным счетом ничего примечательного; она и складывалась бесцветно. Со Сковородой, об удивительной жизни которого уже тогда ходили всевозможные слухи, искали знакомства многие. Один из таких, найдя Сковороду в уединении в старице, попросил его, чтобы философ, если будет в Харькове, познакомился бы с его племянником и «не оставил бы его добрым словом».
В Харькове, рассказывал Ковалинский, «придя посетить училище и увидев там нескольких незнакомцев, Сковорода спросил, не находится ли тут такой-то, племянник NN. Тот молодой человек случайно был среди них, и знакомые сказали Сковороде, что вот он самый и есть…»
За погляд денег не берут – смотринами могло бы все и завершиться. Кстати, так подчас и происходило, и сам Ковалинский такие эпизоды приводит. Так, к примеру, приехал к Сковороде молодой человек, некто из начальства Орловской губернии, и приветственно сказал:
– Г.С.! Прошу полюбить меня.
– Могу ли полюбить вас, – отвечал Сковорода, – я еще не знаю.
Другой из числа таковых же, – продолжал Ковалинский, – желая завести с ним знакомство, сказал ему:
– Я давно знаю вас по сочинениям вашим; прошу доставить мне и личное знакомство ваше.
Сковорода спросил его:
– Как вас зовут?
– Я называюсь так, именем и прозванием NN, – отвечал тот.
Сковорода, остановившись и подумав, сказал ему:
– Имя ваше не скоро отложится на моем сердце…
Скорее всего, не был чем-то особенным и юный студент Михаил Ковалинский – они бы пересеклись, не сошедшись», и не стали бы колос к колосу, сердце к сердцу. Поэтому то, что произошло «на смотринах» в харьковском училище дальше – не событийно, а в глубине – в одночасье превратилось из случая в нечто иное.
«Сковорода, посмотрев на него, – рассказывал о себе в третьем лице Ковалинский, – возлюбил его и любил до самой смерти. После увидел тот молодой человек, что случай такой был устроен ему перстом божьим».
«Любимый кузнечик» Григория Варсавы увидел это во сне. Во сне, о котором Ковалинский за тридцать лет своей дружбы со Сковородой так и не отважится рассказать философу, и лишь позднее опишет в биографических записках этот сон как «странное происшествие».
«1763 года, будучи занят размышлениями о правилах, внушаемых мне Сковородой, и находя, что они в моем уме несогласны с образом мыслей других, желал искренне, чтобы кто-нибудь просветил меня в истине. Находясь в таком положении и очистив по возможности свое сердце, я видел такой сон:
Казалось, что на небе, от одного края до другого, по всему пространству, были написаны большими золотыми буквами слова. Все небо было голубого цвета, и золотые слова не только снаружи блестели, но и внутри сияли прозрачным светом, и не совокупно написаны были по лицу небесного пространства, но складами, по слогам, и содержали следующее точным образом: па-мыть – свя-тых – му-че-ник – А-на-на-я – А-за-ри-я – Ми-са-и-ла.
Из золотых слов сыпались огненные искры, подобно тому, как в кузнице и раздуваемых сильно мехами угольев, и падали стремительно на Григория Сковороду. Он стоял же на земле, подняв вверх прямо правую руку и левую ногу, в виде проповедующего Иоанна Крестителя, которого некоторые живописцы изображают в таком положении тела и каковым Сковорода тут же мне представился.
Я стоял близ него, и некоторые искры из падающих на него, отскакивая, попадали на меня и производили во мне некоторую легкость, раскованность, свободу, бодрость, охоту, веселость, ясность, тепло и неизъяснимое удовольствие духа. Я проснулся, исполненный сладчайшего чувствования…»
Рано утром Ковалинский пересказал этот сон, это странное видение, почтенному и добродетельному старцу, троицкому священнику Борису, у которого снимал квартиру. Старик, подумав, ответил ему с умилением:
– Ах, молодой человек! Слушайтесь вы этого мужа: он послан вам от Бога быть ангелом-руководителем и наставником…
«С того часа молодой человек предался всей душой дружбе Григория, и с этого времени я в продолжении данного писания буду называть его другом по превосходству…»
Этот сон будет иметь для Михаила Ковалинского свое продолжение – летом 1794 года, за два месяца до смерти Сковороды. Григорий Саввич гостил у Ковалинского в деревне и «пересказал полностью всю свою жизнь». В рассказе он упомянул тот самый, пришедший в детстве и напевный в уединении по всей жизни стих Дамаскина: «Образу золотому, на поле Деире служимому, три твои отроцы не берегоша безбожного веления…» Прежде Сковорода ни разу об этом любимом стихе своему другу не рассказывал.
«Друг, услышав это тогда и приведя себе на память виденное им во сне тридцать один год назад, в молчании удивлялся чудесной гармонии, которая в различные лета, в различных местах то одному в уста, то после другому в воображении предстала, – писал Ковалинский и следом этот стих истолковывал. – Золотой образ, на золотом поле Деире служащий, есть мир этот, поле Деирово – время, печь огненная – плоть наша, распаляемая желаниями, похотями, суетными страстями… Трое отроков, не послужившие твари и не согласившиеся поклониться золотому идолу, есть три главные способности человека: ум, воля и действие, не покоряющиеся духу мира сего, во зле лежащего…»
Письма Григоря Сковороды Михайло Ковалинскому
Сорокалетний Сковорода застал Ковалинского в цветущую пору мысленных шатаний, разброда, поиска, противоречий. Эта «возбужденная борьба мыслей» не давала ему покоя, а «предрассудки, возбуждаемые различием мыслей, не позволяли искоренить сомнения» относительно своего духовного наставника.
Ковалинский вспоминал и то, что «прочие учителя внушали ему отвращение к Сковороде, запрещали ему водить знакомство с ним, слушать его разговоры и даже видеться с ним». Однажды и сам Сковорода в одном из писем к Ковалинскому заметит, что это общение возложило на юношу «груз невыносимой зависти»: «Я вижу твою большую любовь ко мне, когда ты предпочитаешь лучше терпеть зависть и ненависть черни, чем прервать наши отношения и беседы». И следом философ говорит, что придется удержаться от писания писем, уступив толпе, чтобы как-нибудь не навредить своему юному другу.
Но «пошлость черни», пораженной завистью и ненавистью, – лишь внешний фон отношений. Сила личности Сковороды и пленяла, и пугала одновременно. Поэтому и пишет Ковалинский, что «любил сердце его, но пугался разума его; почитал жизнь его, но не мог понять умом рассуждений его; уважал добродетели его, но избегал мнений его; видел чистоту нравов, но не понимал истину разума его; желал бы быть другом, но не учеником его…»
Быть учеником Сковороды – то же, что и быть учеником Сократа: либо повторить путь Сократа, либо не быть его учеником. Слушать Сковороду – еще не значит слышать Сковороду. Понять его – значит, самому стоять на земле под золотыми искрами небесного алфавита. Требовать такой решительности повернуть свою судьбу вспять от молодого человека, в голове которого еще полный кавардак, невозможно и не нужно. Как не нужно требовать того же от многих, счастливых и радостных мирским счастьем своим.
Сократа пересказывали многие – учеников не было. Сковороде удивлялись – но учеником его быть не хотели.
Интуиция Ковалинского очень точно вычертила эту грань между Сковородой и миром, даже миром, близким Сковороде по духу, приносящим ему радость. Переступить эту грань и повторить сократический путь – перспектива заманчивая, даже героическая. Но именно такое искушение и сжимало юные мозги до одной ясной, простой и, быть может, спасительной и судьбоносной мысли – Михайло Ковалинский хотел жить жизнью Михайло Ковалинского.
Сковорода это чувствовал, как когда-то чувствовал «светлую жестокость» заповеди: «Блажен, кто не соблазнится обо Мне…»
Он не стал ломать, перестраивать, перекраивать «наидражайшего Михайло» – оставил таким, как есть. Почти таким…
«Молодой человек, воспитывавшийся до этого полуграмотными школьными учителями, частью монахами, в руках которых тогда находились святилища наук, часто слышал от Сковороды противное и не мог согласовать в понимании своем новые правила со старыми», – рассказывал о себе Ковалинский.
Да, «все книгочеи-учителя, да и весь свет, словом и делом убеждали его, что счастье человека состоит в том, чтобы иметь всего много: много еды, много питья, много одежды и в утехах праздно веселиться», – а Сковорода отвечал, что все это не нужно, чтобы действительно быть счастливым.
Да, «философы, которые учили молодого человека, толковали ему, что к одному состоянию жизни больше привязано благословение Бога, к другому – меньше», – а Сковорода отвечал, что все состояния хороши, и Бог никого не обидел, а проклял же только «сынов противления, которые вступают в состояния по страстям».
Да, «всемудрые учили его, что Марк Аврелий, Тит, Сократ, Платон и другие славные в древности великими делами и сердцем люди должны были быть несчастливы, потому что не имели исторического знания про вещи которые случились после них» и не было им святого благовествования, – Сковорода же отвечал, что у всех тех мужей был высший дух, и заслуживают они уважения за последовательную любовь к истине; и поскольку Бог есть истина, то они были верные его слуги…
Стоит ли удивляться смятению в голове юного Ковалинского!
«Стараясь перевоспитать его и желая больше и больше дать ему образ истины, он /Сковорода/ писал к нему письма почти ежедневно, чтобы побудить его к ответу, хоть кратко, приучить его мыслить, рассуждать, изъясняться справедливо, точно и прилично». Ковалинский отвечал – Сковорода писал письма вновь и вновь, передавая их любимому другу через деревенского мальчишку Максимку.
С этих писем – а с 1762 по 1764 годы их сохранилось более семидесяти – было бы ошибкой требовать стройной системы воспитания. Да ее и не могло быть у Сковороды, который сам находился на полпути. В письмах к Ковалинскому все – штрихами, подчас бегло, по поводу, случайно; все в них – разрозненное мозаичное стекло; все – зерна, брошенные в пашню: даст бог, когда-нибудь прорастут…
Вся переписка – апология дружбы. Она – предмет лелеемый, нежный, чистый; она – пристрастие Сковороды.
«Я принадлежу к тем, кто настолько ценит друга, что ставит его выше всех иных друзей и признает лучшим украшением жизни… Если у меня есть друзья, я чувствую себя не просто счастливым, а счастливейшим. Что же удивительного в том, что для меня нет ничего сладостней, чем вести разговор с другом? Только б Бог укрепил меня в мой честности, только б он сделал меня достойным человеком, себе дружественным, ибо добрые люди – друзья божьи и только среди них сохраняется высший дар, что есть настоящая чистая дружба. Ко всему прочему мне нет никакого дела…»
Понимание дружбы у Сковороды эллинское, потому он так часто берет в свои «философские спутники» Плутарха, который благодарил бога за то, что тот, «примешав к жизни дружбу, сделал так, чтобы все было радостно и приятно». Радость дружбы даже внешне подчас оказывалась удивительной – однажды, выходя из храма и увидев Михаила, философ засмеялся и так, что Ковалинскому показалось, что он смеялся «сильней, чем было на самом деле». Юноша тогда просил объяснить причину смеха. «Ты спрашивал, а я не сказал тебе причины, да и теперь не скажу; скажу только то, что смеяться позволительно было тогда, позволительно и теперь: со смехом писал я это письмо…»
Скажет, объяснит, причем, попросит не смеяться тогда, когда он говорит о смехе:
«Смех есть родной брат радости настолько, что часто подменяет ее… Почему я был весел вчера? Слушай же: потому что я увидел твои радостные глаза, я, радостный, приветствовал радующего радостью… Ибо какой чурбан не посмотрит с радостью на счастливого человека и к тому же друга».
Радость дружбы произрастает из глубины и не требует для себя какого-либо антуража. Никакое расстояние и никакое пресыщение, по словам Сковороды, не уменьшает ее сладости – напротив, увеличивает ее. Такие размышления, как признавался философ, «не последнее место занимают среди тех, которыми я обычно пытаюсь украсить свою жизнь». В глубине дружбы – любовь, и Сковорода подчас отождествляет эти слова. Да и не отождествлять то, в основе чего лежит божественный свет, невозможно. Те, кто лишен любви, представляются Сковороде «лишенными солнца и даже мертвыми». Но и сама любовь должна быть истинной, прочной и вечной:
«Любовь никоим образом не может быть вечной и прочной, если рождается из тленных предметов, то есть из богатства и прочего. Прочная и вечная любовь возникает из родственной схожести вечных душ, которые укрепляются их добродетелью и не подвержены разрушению. Ибо, как гнилое дерево не склеивается с другим гнилым деревом, так и между негодными людьми не возникает дружбы. Поэтому если тебе моя любовь дорога, то не бойся, что она пройдет…»
Но дружба, как и жизнь, – бесконечная схватка, и врагов у нее предостаточно. И следует, по словам Сковороды, более всего заботиться о том, чтобы «не заключить волка вместо овцы, скорпиона вместо рака, змею вместо ящерицы», ибо нет ничего опаснее и ядовитее, чем притворный друг.



