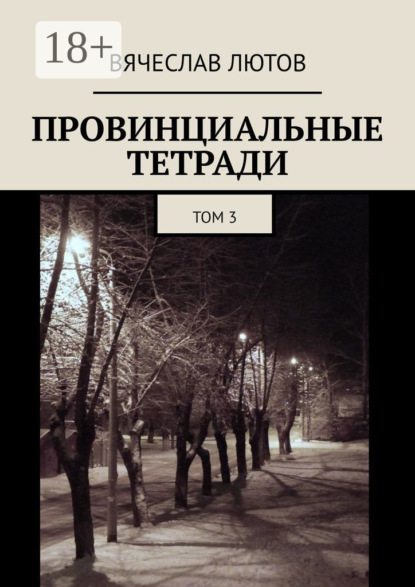
Полная версия:
Провинциальные тетради. Том 3
Григорий Варсава не ошибся в ученике, и сам ученик сохранил любовь к своему учителю до конца дней. Василий Томара станет и посланником в Константинополе, и сенатором; он достигнет вершин карьеры, но с этих вершин заглянет в темные глубины душевной бездны. «Вспомнишь ли ты, почтенный друг мой, твоего Василия, по наружности, может быть, и несчастного, но внутренне более имеющего нужду в совете, нежели когда был с тобой, – напишет В. Томара Сковороде в 1788 году. – О, если бы внушил тебе господь пожить со мною! Если бы ты меня один раз выслушал…»
Но пока, в 1753 году в Коврае, вышло недоразумение, обидная нелепость, глупость.
«Однажды, разговаривая со своим воспитанником и видя его любовь к себе, а потому обращаясь с ним откровенно и просто, Сковорода спросил его, что он думает о том, что говорили. Воспитанник в тот раз ответил неправильно. Сковорода возразил ему, что он мыслит об том, как свиная голова. Слуги тотчас донесли пани, что учитель называет их шляхетского сына свиной головой. Мать рассердилась, нажаловалась мужу и требовала мести за такое оскорбление. Старик Томара, зная внутреннюю цену учителя, но поступая по настоянию жены, отказал ему в доме и должности и, впервые заговорив с ним, сказал: «Извини меня, пан! Мне тебя жаль!..»
Свою отставку философ воспринял сократически: «если так произошло, значит так угодно богам». Он снова остался ни при чем; он совершенно не знает, что ему делать. Между тем, никакого потрясения перед открывшейся ему неизвестностью Сковорода не испытывает, не впадает в панику (как это случилось бы со многими из нас), и тем более не ищет суматошно нового места. Он вообще, по словам В. Эрна, «мало интересуется этим вопросом» – что же делать дальше?
Примером тому может служить поездка Сковороды в 1755 году в Москву, в Троице-Сергиеву лавру. «Тут неожиданно представился ему случай», – так в который раз маркирует перемещения Сковороды Ковалинский. «Какой-то приятель его (Владимир Каллиграф, преподаватель Киевской академии) уговорил его ехать в Лавру», – так излагает этот случай В. Эрн.
Кто кому подвернулся под руку – Каллиграф Сковороде или Сковорода Каллиграфу – не имеет никакого принципиального значения. Важно лишь то, что никаких особых дел в Троице-Сергиевой лавре у Сковороды не было, и поехал он в Москву, скорее всего, как раз от нечего делать, праздно, бесцельно (хотя и не бездумно).
Эту поездку бывшего коврайского жителя в лавру не без основания называют «искушением церковной карьерой».
Настоятелем лавры был «многоученый Кирилл» (Ляшевецкий), который со временем станет близким адресатом Сковороды. «Сей увидал Сковороду, которого знал уже по слухам, – пишет Ковалинский, – и нашел в нем человека необычайно одаренного в учености, старался уговорить его остаться в лавре для пользы училища».
Сковорода отказывается – ни к чему иному, собственно, бесцельная поездка привести не могла. Не успев приехать, философ уже жгуче тоскует по родному краю. К тому же занятия поэзией кажутся ему более привлекательными, чем преподавание в академии. Любая «деловая привязанность» его тяготит, «думы трудны» и «города премноголюдны» его не прельщают. Что же до монашества, то стоит ли быть настолько безрассудным, чтобы «с безделицы» принимать подобные решения?
Он возвращается – по иронии судьбы, в тот же Переяславль, в те же Ковраи, к тому же Томаре…
Возвращение вышло почти детективным – по меньшей мере, некоторые черты классического жанра сохранились.
«Не успел Сковорода приехать в Переяслав, как разумный Томара поручил своим знакомым уговорить его, чтобы он снова нанялся учителем его сына. Сковорода не соглашался, зная его предрассудки, а еще больше его домашних, но приятель его, упрошенный Томарой, обманом привез его, спящего, ночью в село».
В этом рассказе можно услышать отголоски Третьего Литовского устава 1588 года, который еще распространялся тогда на Украину и согласно которому помещик мог объявить своим крепостным любого, кто хотя бы несколько лет прожил в его имении. Скажем сразу: Томара подобной каверзы не готовил. Ю. Барабаш, приводя эту версию, четко оговаривает, что Сковороде, коврайскому изгнаннику, ничего не грозило, ничто не мешало ему уехать в любой момент, если бы он почувствовал какую-либо опасность.
Так что тайна ночного происшествия – в обычной ночной дороге. Случай, ни к чему не обязывающий – даже в пределах нашего повествования…
«Старый Томара (которому, кстати, тогда исполнилось лишь 35 лет) уже не был тем гербовым вельможей, а ласковым дворянином, который желал ценить людей по их внутренним достоинствам», – рассказывал Ковалинский, рисуя вторичное пребывание Сковороды в Коврае в несколько «розовом цвете». При этом он даже не оставил никакого намека на те обстоятельства, которые привели Томару к столь чудесному перерождению.
Предположений можно делать много. В. Эрн, к примеру, глухо говорит, что в жизни Томары «случилось что-то важное», что «гербовая спесь слетела с него от какого-то жизненного удара». Что это был за удар – на то нет никаких указаний. Вряд ли речь могла идти о каком-либо трагическом событии в его жизни или в жизни его семьи – благо, все живы-здоровы. Скорее всего, над Томарой попросту посмеялись, причем, тем смехом, который перечеркивал гордую карамазовскую исповедь и который был так страшен. На каждое гордячество есть своя насмешка – убийственная, обидная, злая. Выставить Томару дураком не составило бы особого труда – ведь в его доме находился не школяр, не недоучившийся спудей, какого можно шпынять по делу и без дела, а человек, чьи знания и ученость были признаны многими известными людьми того времени и кем нельзя было разбрасываться направо и налево.
Сковорода был нужен Томаре – пусть для престижа, пусть для реноме; пусть подобно золотой бляхе, перстню на пальце или цепи на шее – зато на своей…
Как бы то ни было, Томара «дружески его обласкал, просил быть другом его сына и наставлять его в науках». «Любовь и ласковое обхождение, – продолжает Ковалинский, – всегда сильно действовали на Сковороду. Он остался у Томары с искренним желанием быть полезным, без договора, без условий…»
Собственно, большего от Томары и не требовалось. Сам того не замечая, не зная, он открыл путь Сковороде-философу.
О, дубрава! О, свобода! В тебе я начал мудреть,
В тебе моя природа, в тебе хочу и умереть…
Лучший дар человеку – тишина жизни. Ее и искать-то специально не нужно – «всюду тебе даруется». Но мы упорно предпочитаем мчаться, бежать за нею; мы ищем ее в суматохе и сами становимся суматохой; наши мысли вразброс, как горох на полу. «Пора угомониться! Иначе тебе не придется прочесть ни твоих воспоминаний, ни деяний древних римлян и греков, ни тех отрывков из писателей, которые ты отобрал себе под старость».
Так наставлял Сковороду Марк Аврелий, так приводил его к стоической школе.
В определенной мере справедливо, что философия рождается из успокоенной, угомоненной праздности, из мерного течения времени; что она рождается в светлых рощах под шелест осенних листьев, под шум дождя, «под музыку серебряных спиц» и изумрудной воды. Она рождается из умного созерцания – достаточно философу «предметно созерцать и мыслить», как скажет много позднее Сковороды Иван Ильин.
Обновленное коврайское житье складывалось для Григория Варсавы хорошо, может быть, даже счастливо.
«Часто в свободные от своей должности часы он направлялся в поля, рощи, сады для размышлений. Рано утром заря становилась спутницей в его прогулках, а дубравы – собеседниками его глумлений».
Одиночество располагало к этим «глумлениям» – размышлениям. Ковалинскому это настроение Сковороды передавалось в эпикурейской традиции – нрав своего учителя он называл беспечным, которому чужды треволнения мира, но дороже радостный покой природы. Хотя мир прорывался в этот сад. Сковорода, как и любой другой человек, вынужден был искать «какое-нибудь состояние в жизни». Он искал, но не находил – ни в суетном мире светских забот и забав, ни в монашестве, которое представлялось ему «мрачным гнездом спекшихся страстей», ни в женитьбе, которая хоть и «одобряется природой», но связывает человека накрепко, ибо жена – не лапоть, и с ноги не сбросишь.
«Не выбрав себе ни одного из состояний, он твердо положил на сердце, что снабдит свою жизнь воздержанием, малодовольством, целомудрием, смирением, трудолюбием, терпением, благодушием, простотой нравов, чистосердечием, оставив все искания суетные, все попечения любостяжательства и трудные излишества».
«Утешение и радость, радость и сладость, сладость и жизнь есть то же», – напишет Сковорода позднее, в 1776 году, в книжечке «Икона Алкивиадская»; напишет, словно вспомнит коврайскую безмятежность. Вспомнит и Цицеронова Катона, который «любил в старости пирушки, но растворенные насыщающими сердце мудрыми беседами, начертающими не видимую нигде, а прекрасную ипостась истины, влекущей все чувства и услаждающей…»
«Живи сейчас», – так переводит эту сладость стоик Сенека. А Сковорода упомянул о ней, как упомянул и о платоновской «сладости истины». С этим и жил тогда, в конце 1750-х годов, в Коврае. Жил безмятежно, почти безмятежно…
Страшный сон
«В полночь, ноября 24-го дня, 1758 года, в селе Коврай казалось во сне, будто бы я разглядываю разные забавы людские по разным местностям.
В одном месте я был, где царские палаты, наряды, музыка, танцы; где влюбленные то пели, то рассматривали себя в зеркалах, то бегали из комнаты в комнату, снимали маски, садились на богатые постели и прочее.
Затем повела меня сила к простому люду, где так же делали, только своим чином и порядком. Люди ходили по улицам с бутылками в руках, шумно, весело, смеясь, как обычно бывает у черного народа; так же любовные дела свои подробным образом справляли. Тут, поставив в один ряд мужчин, а в другой – женщин, рассматривали, кто красивый, кто на кого похожий и кому достоин быть парой.
Отсюда я пошел в постоялые дворы, где кони, упряжь, сено, расплаты, споры и прочее.
Наконец, сила ввела меня в храм некий великий и прекрасный: тут якобы в день сошествия Святого Духа служил я литургию с дьяконом, и хорошо помню, что громко провозгласил: «Ибо свят ты, Бог наш» и прочее до конца. При том на обоих хорах пели: «Святы Боже…» Сам же я, с дьяконом пред престолом до земли кланяясь, внутренне чувствовал сладчайшее удовольствие, которое не могу пересказать.
Однако и здесь человеческими пороками осквернено. Сребролюбие с кошельком таскается и, самого священника не минуя, силой вырывает часть. От мясных обедов, которые подавались в смежных с храмом комнатах, куда из алтаря вело много дверей, во время литургии запах достигал самой святой трапезы.
Тут я увидел следующее ужасное зрелище. Как некоторым недоставало к еде птичьего или звериного мяса, то они одетого в черную ризу человека, имевшего голые колени и убогие сандалии, убитого, в руках держали на огне, колена и икры жарили и мясо со стекающим жиром отрезая и отгрызая, жрали; и сие желали якобы некие служители. Я, не стерпев смрада и сей жестокости, отвернул очи и пошел.
Сон сей не столько усладил меня, сколько устрашил…»
В саду божественных песен
Этот сон, устрашивший его, Сковорода записал сразу же и оставил его в своих заметках, перешедших позднее к Ковалинскому. «Через три дня прибудешь в плодоносную свою Пифию», – рассказывал Критону свой сон Сократ, когда тот пришел объявить ему о приговоре. Сон есть божественное откровение, особый знак судьбы, древний оракул – никак иначе и не мог воспринимать Григорий Варсава увиденное.
Этот сон разрушал его коврайское эпикурово счастье.
Да и было ли счастье? Стоило ли покидать веселую и звонкую рощу и уходить в сумрачный лес в поисках своего Вергилия?
Тогда же, в 1758 году в Коврае, Сковорода сложил песню 19-ю на изречение: «Несть наша брань к плоти и крови… Попирай льва и змея… Возьми меч духовный, ибо он есть слово божье…»
Ах ты, тоска проклята! О докучлива печаль!
Грызешь ты измлада, как моль платья, как ржа сталь.
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!
Куда не пойду, все с тобой всякий час…
И ждет Сковорода, и ищет Христа – «небесный меч», способный разнести этих «гадких зверей», что точат его сердце; ждет «свыше глас пресладкий, когда возревет». Из этого мучительного ожидания и произрос «Сад божественных песен» – его книга стихов.
Скука скучная, смертная в Сковороде произрастала не меньшая, чем в Александре Блоке. Она кружит вьюгой по сковородиной книге стихов, кровоточит глубокими ранами и укрывает саваном:
Объяли вокруг мя раны смертоносны,Адовы бесы обошли несносны,Нашли страх и тьма!..Не его одного и не на него одного. Подобная тьма-тоска устрашит в Арзамасе Льва Толстого и заставит его бежать невесть куда – лишь бы прочь. У Сковороды она пробирается вовнутрь, таится в нем до поры до времени, жжет его пламенем, пока, наконец, не взрывается:
Откуда-то скука внутрь скрежет, тоска, печаль.
Отсюда несытость, из капли жар горший встал…
Не дает она ему покоя – ни в коврайских «глумлениях», ни в позднем странничестве. В 1785 году старец Григорий Варсава напишет:
Челнок мой бури вихрь шатает,То в бездну, то ввысь ввергает.Ах, несть мне днесь мира…«Душа его в борении», – так напишет Эрн и назовет «Сады божественных песен» не иначе, как подпольем Сковороды, в душе которого «есть щели и дыры, и дыхание ада, врываясь опустошительной бурей, кидает его в разные стороны».
Он плачет – без слез, изнутри, «тайным плачем мира»:
Горе ти, Мире. Смех вне являешь,
Внутрь же душою тайно рыдаешь…
Но и внутри – нутро ядом отравлено.
Может быть, и не пристало в «Саду божественных песен» пастись «низким» харьковским басням, но не давал покоя Сковороде один сон, образ африканского оленя – того самого, что питается ядовитыми змеями.
«Один из таких, – рассказывает свою басню Сковорода, – нажравшись досыта змей и не терпя внутри палящей ядом жажды, быстрее птиц в полден пустился к источникам водным и на горы высокие. Тут увидел Верблюда, пьющего в потоке мутную воду.
– Куда спешишь, господин Рогач? – отозвался Верблюд. – Напейся со мной в этом ручейке.
Олень отвечал, что он мутной воды пить в сладость не может.
– То-то ваша братия чрезмерно нежна и замысловата, а я нарочно делаю мутной: для меня мутная слаще.
– Верю, – сказал Олень. – Но я родился пить самую прозрачнейшую из родника воду…»
«Прорастет» этот образ в «Песнях» – вслед за Захарией и Исайей: «О! Бегите на гору. Восстань, спящий! Покой даст Бог на этой горе»:
Так африканский страждет олень скорый,Он птиц быстрее пить спешит в горы,А жажда жжет внутри, насыщенная гадомИ всяким ядом.Я на Голгофу поскорей поспею;Там висит врач мой между двух злодеев…Лишь Он, Великий, способен открыть «сердечные пещеры» маленького Григория Варсавы и выпустить «спертую скорбь его духа» – слезами, мучениями, болезнями, испытаниями. Он просит то, что позднее попросит Л. Толстой, так и «не претерпевший за веру» – страданий, креста своего и своего распятия:
Сраспни мое тело, спригвозди на крест,
Пусть буду же вне не целый, дабы внутрь воскрес…
Что за смысл беречь «телесных болванов наших», которые без божественного света и чистого живительного источника каменеют, ложатся бетоном и асфальтом на живую траву, живую душу? Если слушать «гласы лестные», то кто избежит сети? Если не увидеть, если не почувствовать себя мертвым Лазарем, заваленным камнями, то откуда же взяться воскрешению?
В этом странном движении скрыта совершенно особая метафизика Григория Сковороды, тайна его философской и человеческой природы. «Сковорода не обращается к церкви, – говорит Эрн. – Веря в нее, он не идет к священнику, чтобы душу свою облегчить исповедью и покаянием». Вряд ли его устроит церковное «сораспятие» – ему нужно свое, сковородинское, «пригвождение», свое перерождение, свое обретение нового человека. «Стихийно-природное, – продолжает Эрн, – пройдя через внутреннюю Голгофу, преображается в благодатно-природное», и только тогда Сковороде открывается безмятежная тишина и небесная лазурь:
Прошли облака. Радостно дуга сияет.Прошла вся тоска. Свет нам блистает.Веселье сердечное есть чистый свет вёдра,Если миновал мрак и шум мирского ветра.Если миновал… Нет, этот ветер останется и в саду божественных песен, пригибая к земле слова и строки, и в жизни самого Сковороды. Но он ждет, он надеется, он верит Исайе: «Прорастет земля быльем-травой: кости твои прорастут, как трава, и раскиданы будут». В этом перерождении он видит закон природы, и сам готов перерасти заново в божественном саду:
О Бог мой – ты мне сад!..
Душа моя есть верба, а ты для нее есть воды…
Вся философия Сковороды – именно это светлое упорядоченное природное движение, перерождение. Его философия – всецело произрастание, наливание соком, качание на ветру, стекание капли благодатного дождя по стеблю. Его мир – мир отглагольного сущего. Его мир – это «путь зерна», которое прежде цветет внутрь и которое
За один старый колос
В грядущий летний час сторицей воздаст на плод.
Свой «Сад божественный песен» Сковорода взращивал десятилетиями, меняясь сам и обновляя некоторые свои песни. Они начинались в коврайском уединении с его жестокой тоской и сладостью, с душевным мучением и радостью, с ядом мира и «сущим» Августиновым словом – «истреби собственную волю, и истребится ад».
С первых песен, произросших из зерен священного писания, начинается его философия – философия «незаходящего солнца, тьму сердечной бездны просвещающего…»
Игры на свирели
«Земное просвещение», между тем, окажется для Сковороды горьким.
«Яблоню не учи родить яблоки: уже сама природа ее научила. Огради ее только от свиней, отрежь сорняки, очисти гусениц, – так наставлял Благодарный Еродий, птица-журавль, обезьяну Пишек, сидевшую на дереве с двумя своими детенышами. – Воззрим, госпожа моя, на весь род человеческий! У них науки, как на торжищах купля, кипят и метаются…»
На этом торжище придется подвизаться и Сковороде. Хотелось бы сказать, что не по своей воле, да он сам соглашался, «принимал предложение», которое каждый раз оканчивалось неудачей, изгнанием, бегством. Слишком тесны оказывались «ученые лавки» для его знаний и образа мыслей, слишком тесны были отведенные квадратные метры для его просторов, слишком чуждыми оказывались приказчики, распорядители и церемонемейстеры.
Первый учительский опыт Сковороды был в Переяславле, куда тамошний епископ пригласил его преподавать поэзию. Сковорода предпринял для такого случая целый проект – написал рассуждение о поэзии и руководство к искусству поэтики. «Оно показалось епископу удивительным и несообразным прежнему старинному обычаю, – рассказывает Ковалинский. – Епископ приказал переменить и преподавать по тогдашнему образу учения…»
Сковорода приказ не выполнил – не мог выполнить. Но вскоре за ослушание ему пришлось отвечать – «на суд через консисторию». Отвечал с тем же чувством, что и Пушкин: «не мечите бисер перед свиньями». Разве что «скромнее», тактичнее. Он пояснял суду, что его поэтика основана «на самой природе этого искусства», доказывал. Под конец не сдержался и добавил: Alia res sceptrum, alia plectrum – одно дело пастырский жезл, другое пастушья свирель.
– Пусть не живет в моем доме тот, кто творит гордыню, – сделал резолюцию епископ, и Сковорода был изгнан из Переяславльского училища…
В 1759 году, когда пришла пора молодому Василию Томаре закончить домашнее образование и «поступить в другой круг упражнений, пристойных по свету и роду», пришла пора уходить и Сковороде. Через игумена Гервасия Якубовича, с которым Григорий Варсава был дружен, пришло предложение от нового епископа Иоасафа Миткевича, проректора Харьковского коллегиума.
Именно с этим училищем, пусть и с перерывами, будет связано почти целое десятилетие жизни философа.
Поначалу все складывалось совсем неплохо, как, впрочем, и всегда бывает поначалу. В новом курсе пиитики Сковорода сохранил почти все идеи своих прежних размышлений. Все бы ничего, если бы не одно предложение Иоасафа Миткевича, не имевшее к поэзии никакого отношения, сделанное так некстати и не тому. Но прежде, чем мы его озвучим, сделаем одну очень важную оговорку.
Философия Сковороды, вся пронизанная светом Библии, светом эллинской мудрости и наполненная религиозной этикой и самопознанием, – это меньше всего богословие, тем более в его ортодоксальном варианте. Это парадокс, и парадокс очень глубокий. Прот. Г. Флоровский, включая Сковороду в «Пути русского богословия», одновременно и исключает его из богословского пантеона – он относит воззрения философа к мистическому типу «набожно-пиетических настроений» и тем самым приближает Сковороду к масонским кругам.
Конечно, ни к каким масонам Сковорода не относился и ни в каких ложах не пребывал. Суть в другом. Библейский пафос Сковороды смутил многих – искушенные в логике, они потребовали богословия, но не получили его. Они потребовали церковного канона – но именно из этого канона Григорий Варсава и вываливался, как мелкая монета из худого кошелька.
Камнем преткновения в отношениях с белгородским епископом стало «отсутствие в Сковороде церковной традиции». Мы помним, что еще в годы своего ученичества философ оказался в стороне от жарких богословских диспутов. Не это его обжигало, не в этом он искал своего спасения, не стал бы его философский ум «разбираться» с обидчиками на большой дороге. Сковорода живет Христом, как китаец живет Буддой. Он ждет сопряжения, единения – и с божественным светом, и с мучением на кресте; он ищет Его внутри, там, где «душа рыдает»; он готов раздирать колючие проходы к светлым источникам – но только вместе с Тем, для Кого все возможно.
В этом сопряжении посредник не нужен; для Сковороды – невозможен, как невозможен посредник в глубокой и искренней любви, как невозможна сваха для страстного чувства, для «пожара сердца».
«Любовь есть вечный союз между богом и человеком, – поясняет Сковорода в 1766 году. – Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды, или значки; они-то называются церемония, обряд, или обряд благочестия. Церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек – гробом раскрашенным…»
И в этот самый момент Миткевич предлагает Сковороде принять монашеский сан!
На что рассчитывал Гервасий Якубович, пришедший по поручению епископа уговаривать философа принять сан и пойти по лестнице духовенства для «блага, пользы, славы и изобилия»? Чем думал пленить его? Каким средством хотел направить бурный, набирающий силы и произрастающий из каждой новой капли поток в ортодоксальное русло?
«Сковорода, выслушав это, сильно вознегодовал и сказал Гервасию:
– Разве вы хотите, чтобы я пополнил число фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательской, малодовольстве, воздержанности, в лишении всего непотребного, чтобы обрести нужнейшее, в отвержении всех прихотей, чтобы сохранить самого себя в целости, в обуздании себялюбия, чтобы удобней выполнить заповедь любви к ближнему, в искании славы божьей, а не славы человеческой…»
Этот «инцидент» станет причиной первого ухода Сковороды из Харьковского коллегиума. Старый друг Гервасий, не глядя на Сковороду, благословит с досадой философа на дорогу…
Подобный случай «постричь Сковороду» будет не единственным.
В 1764 году Григорий Варсава вместе с Ковалинским приедет в Киев – на каникулы. На время Сковорода стал даже экскурсоводом для своего юного друга – «толковал историю места, древних нравов и обычаев». Пока не дошли до Печерской лавры. Многие знакомые, будучи тогда монахами, буквально напали на Сковороду, обступили его:
– Хватит бродить по свету! Пора пристать к гавани. Нам известны твои таланты, святая лавра примет тебя, как мать свое дитя, будешь ты столп церкви и украшение обители.
– Ах, преподобные! – возразил он с горячностью. – Я не хочу умножать собой столпотворение, довольно и вас, столпов неотесанных, в храмах божьих.
После этого приветствия старцы замолчали, а Сковорода, смотря на них, продолжал:
– Риза, риза! Сколь немногих сделала ты преподобными! Сколь многих очаровала и сделала окаянными. Мир ловит людей разными сетями, накрывая богатством, почестями, славой, друзьями, знакомствами, покровителями, выгодами, утехами и святыней, но всех несчастнее есть последняя. Блажен, кто святость сердца, то есть счастье свое, укрыл не в ризу, но в волю Господа!..



