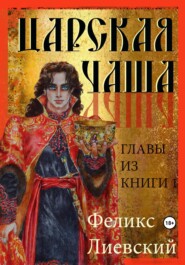скачать книгу бесплатно
Федька стоял на самом верху стены, у выхода из шатра Глебовской башни, и смотрел на чёрный сплошной клубящийся дым юго-западного горизонта. Это не был дым костров или становища. Так горят посады и поля. Что сейчас творилось в ближних уездах при Шацке, Пронске и Ижеславле, догадаться было не трудно. Последние, кажется, беженцы только что миновали Рязанский мост через Лыбедь, направляемые криками сверху и указаниями взмыленных конных вестовых, стегающих ногайками всех и всё подряд, заставляя ополоумевших от гонки и ужаса лошадей двигаться, и людей, уже готовых бросить всё оставшееся, подниматься и поднимать друг друга и бежать к спасительным стенам. Сразу же за последним вестовым у переправы рубили пеньковые тяги, с грохотом валились брёвна – мост был перекрыт непролазным завалом, и стали закрываться ворота.
Как будто послышался из леса за Трубежем рожок. Воевода сорвался с места, бежали по стене к Ипатской. На берег с той стороны так же бегом высыпал отряд с хорунжим впереди, около двух сотен лучников примерно. Конная сотня Вердеревского поспела, как обещал. Но и только… Помощи больше ждать было неоткуда. Покуда переправлялись, занялась протяжными криками «На изготовку!» вся западная передовая. Обширным непрерывным потоком из тонкого бурого марева пыли над горизонтом вырвалась и потекла по равнине, стремительно щетинясь чёрными иглами копий, разделяясь на три рукава захвата, ханская конница. Применяя всегдашнюю тактику внезапности окружения, раздробляя обороняющихся перед стенами, как правило, главные силы хан бросал на уже порядком ослабленную крепость. Но роскоши встретить хана в степи Басманов не мог себе позволить. Это была бы бессмысленная растрата людей… Отдав приказ замуровать за лучниками Вердеревского и Ипатский проезд, воевода вернулся на передовую.
Войска спешивших им на помощь, да слишком запоздавших князей так и остались за Окой, услыхав сигналы атаки и разумно не рискнув подставиться под ураган, сметающий всё на пути…
Федька краем глаза заметил какое-то белёсое мелькание по степи внизу, невдалеке слева, от шацкого направления, на полпути между ними и лавиной, и дёрнулся, прежде чем успел подумать. Каменная рука воеводы стиснула его плечо, удерживая на месте.
– Всё равно не поспели бы, – воевода, прищурясь, оценивал время и быстроту наступления, пушкари и стрельцы ждали его команды. Меж тем отделившийся от массы язык конников охватил в кольцо несчастливых беглецов-поселенцев, и всё смешалось снова…
Эти последние мгновения от нарастающего рокочущего сотрясения от тысяч тысяч копыт и лязгающих криков, заполнивших всю равнину, как блюдо без края, до пушечного грома с их высоты в ответ Федьке сравнить было не с чем. Если б можно было броситься на коне туда, навстречу, и рубиться без оглядки и памяти, он бы бросился, от невыносимости ждать. Если бы отец сейчас спросил, страшно ли ему, он бы сознался, что страшно… Но воевода посмотрел на него с шальной какой-то диковатой усмешкой, снова весь преобразившись в одну непробиваемую бешеную беспощадную силищу упрямства.
–Кудри подвяжи, опалишь ведь, – не ясно, всерьёз или шутя, воевода потрепал его легонько по загривку. – Отойди от бойницы покамест. Али боишься, пострелять не придётся?! Ничо, нынче вдоволь натешишься!
После первой волны атаки, разорванной пушками, всё понеслось как бы само собой.
Оглушённый, откашливаясь от гари пороховой, он не мог расслышать свиста первых сотен долетевших до них стрел. Сам стрелял почти беспрерывно, стараясь всё же целить наверняка, хоть это было почти невозможно – крепость оборонялась слаженно, и пока не настали густые сумерки, ни одному осадному стану не удалось подойти к стене вплотную. Обычно утихающие к ночи, атаки ханской конницы на сей раз не ослабевали. Бить приходилось почти наугад, тогда как нападающим они были видны в свете костров и выстрелов несравнимо лучше. Впрочем, это было не особенно важно при такой кучности врагов на аршин. Стреляй по ближайшему краю, не ошибёшься… Вскоре тело перестало отзываться болью на каждую ссадину и царапину, глаза проплакались и попривыкли к едкому дыму, слух выучился различать через непрерывный адов грохот и вой нужные голоса и звуки.
Ночью сразу в нескольких сторонах занялись пожары. Хоть и были заведомо приняты меры, и политы водою, присыпаны песком и землёй многие крыши и амбары, и везде расставлены смотрящие. Горели пустые сады и дома… И в городе, и вокруг него. Воевода постоянно теперь мотался по стенам и башням, и они с Федькой разминулись часов на семь в невообразимости городской сумятицы. Пока что жителям пожары удавалось гасить, первая оторопь прошла, сменившись яростью упорства, и сознанием отрешённости от прочего мира, необратимости творящегося, которое обычно появляется с первыми убитыми и первыми ранами.
К утру напор осады возобновился. Несметные тучи, непрестанно карабкающиеся вверх, готовые перехлестнуть через показавшуюся теперь такой низкой и тонкой грань стен, бились и бились, откатывались совсем ненадолго, и уже охватили всю крепость удушливым кольцом.
–Фёдор Алексеич! Воевода зовёт тебя тотчас, на Тайничной башне он, – кто-то, весь в копоти, с ручной пищалью на плече, привалился к деревянному, утыканному стрелами заслону его бойницы рядом.
–Не могу я тотчас! – прокашлявшись, прокричал Федька, прилаживая свой самострел, – Видал, что у нас тут творится!
–Так это везде щас так! Иди, Фёдор Алексеич, я за тебя тут побуду.
Наутро на отрезе между Все-Святской и Безымянной завязалась первая рукопашная. Отбились, осадную городулю отвалили. Очень спасало то, что хоть пороху было завались, и весь почти сухой, как надо… Кидали со стен в глиняных плошках и горшках, с просмолённой ветошью вместо фитилей. Лили кипяток и смолу.
На вторую ночь ему начало казаться, что всё повторяется, только лица кругом как бы разные. Дня он не запомнил, весь поглощённый, кроме отцовских поручений, непрестанными попутными трудами во всех концах сражающегося города. Во время драки на стене он едва не сорвался вниз вместе с заколотым, вцепившимся в его горло мёртвой хваткой ногайцем. Кто-то помог отцепиться. Поднимаясь, качнулся и сам налетел на железный наруч спасителя, расшиб губы. Оттого после уголок чуть припухшей верхней губы казался приподнятым, и делал Федьку как бы надменно и коварно, хоть неявно, усмехающимся… А бармица бы пригодилась, да.
На третью и голоса, и лица стали уже неразличимы. Многожды он едва не падал, и не от усталости, исчезнувшей совсем уже на вторые бессонные сутки, а от обломков каких-то, и тел, о которые спотыкался. Ему кто-то помогал встать, и там, внизу, под стеной, подносил воды, подавал мокрый рушник отереться, и, кажется, он даже иногда что-то жевал и глотал, но тоже только когда оказывался у стены под укрытием, и видел перед собой склонившуюся фигуру, вкладывающую ему в руки съестное на тряпице. О прочих бренных нуждах телесных вспоминалось до того редко, и до того вытравились из него все стеснения и неловкости, в этаком котле смешные и ненужные, что из всех опасений, по незнанию терзающих его перед битвой, теперь оставалась только одно – выбыть из боя прежде его завершения. Теперь они постоянно виделись с отцом. Воевода казался каменным, даже голос его не осел ничуть от непрерывного командного крика. Федька смотрел на его высокую крепкую фигуру, и уже ничего не боялся. Стрелы свистели постоянно, он перестал их замечать, даже их жгучие укусы вскользь, – некоторые на излёте попадали за защиту.
По пути в оружейную с поручением для дьяка он задержался у огороженного навеса с козами и коровами, которых тут же доили… Ему вдруг привиделся узорчатый шёлковый небесно-лазурный паволок матушки среди платков сидящих среди кучи детворы молодух. А маленький старикашечка с хитроватой улыбкой вещал: "У нас в Рязани грибы с глазами! Их едят, они глядят! Идёт тать по лесу, русский дух вынюхивает, шиша-хранителя не слышит не видит, а гриб сорвёт, да съест. Срежет ножку ножиком, либо собьёт, затопчет, а грибной "глаз" останется и смотрит! Шиш пройдёт, глазом этим татя увидит, сторожам свистнет, сторожа воеводе скажутся, а воевода дружину добрую соберёт, да и всех татей прогонит! А ещё по речке Крутице шёл как-то князь Олег Иванович на хана Тагая…". Бабы вместе с малышнёй открывши рот слушали, и Федька было остановился тоже, привалившись плечом к дубовому боку загородки, за которой вповалку на соломенных тюфяках отдыхали служилые… Да очнулся вовремя, стряхнул наваждение, попросил жёнку из тех, что на ополченье кашеварили, окатить его голову студёной водой из кадушки.
–Мы умрём, да, батюшка? – уже не стыдно спрашивать, не из страха слова срываются, сами порхают в лёгкой-прелёгкой голове, и всё так ясно, отчётливо, ярко теперь видится, только крики «Уходят! Уходят!» отовсюду мешают расслышать ответ. Он всё же выпал из мира ненадолго. Отвалился от просвета стрельни, чтоб колчан пополнить и водицы хлебнуть, а когда голову поднял снова, уже светало. Четвёртая ночь миновала.
–Погодим покамест, кажется! – воевода тяжело поднимается, опираясь о вырубленный край бойницы. Всматривается вдаль. – Уходят, и вправду… Уходят! Что такое…
По всему кольцу захвата точно пробежалась заминка и дрожь, и так же стремительно и слаженно, как прежде наступали, ханские волны, казавшиеся нескончаемыми, схлынули, оставляя брошенными стенобитные орудия и башни, и лестницы, стали стекаться в один уходящий к горизонту поток. Повсюду снимались шатры и покидались костры. Давлет-Гирей отступил.
Под стенами, по всему валу, по берегам и в водах рек, во рву остался сплошной тёмно-бурый ковёр поверженных тел, людей и лошадей. Одинокие, без седоков, кони беспорядочно носились и разбредались по степи. Некогда буйные сады вокруг города выгорали последним пожаром.
–Алексей Данилыч! Догнать бы! – Иван, старший из четырёх сыновей Шиловского, бывших тут в резервной коннице, как нельзя кстати выразил основную мысль, бьющуюся в вихре прочих в пугающе быстро проясняющейся после сна-провала Федькиной голове. Только что он не мог и шевельнуться, но бешеный удар лихости вскинул его сердце к горлу, а его самого – к краю стены. Он пожирал взором уходящего врага, матово-белый, словно неживой, только горели обведённые чернотой глаза, и темнели сжатые губы. Воевода знал, победа не будет полной, а подвиг – засчитанным, если не попробовать хотя бы вернуть полон, влекомый обычно в хвосте отступающего войска, коли такое представляется возможным. Воротынский пренебрегал этим, считая главным отстоять рубеж, и поплатился вот… Надо было знать царя Иоанна.
Конный отряд, обязанный быть свежим и отдохнувшим, сберегаемый в недосягаемости боя для последнего часа, когда ещё возможно будет драться на подступах к готовому пасть городу, или вот так, как сейчас, лететь вслед и разить убегающих, тут же выстроился у отворяемых Глебовских ворот. Покуда их отпирали, спустившиеся со стены по верёвкам и в люльках люди как можно скорее разгребали для проезда заваленный брёвнами мост…
Весть о чудесном избавлении, о вымоленном у Богородицы спасении озарила вмиг весь город, принимая вид своеобразного светлого помешательства. И как бы иначе можно это объяснить, как понять, что кровожадная громада, вдесятеро числом превосходящая защитников слабо укреплённой крепости, на самом пороге торжества своего вдруг бросилась наутёк. Все подряд со слезами и возгласами кидались обниматься, как в день Пасхи. Только слёз было не в пример больше…
Позже, конечно, при разборе всего дела, выяснилась причина. Хан прознал о страшном царском гневе на вероломство его, «брата» своего, как обращался к нему с изрядной иронией в личных посланиях Иоанн, вопреки их уговору в союз с Сигизмундом польским связавшемуся, и о царском войске, выдвинувшемся из Москвы к Рязани на помощь, и решил не рисковать, поскольку точно не было известно, сколько именно полков вышло – сведения лазутчиков тут рознились. Хотя чудом небесного покровительства можно было назвать всё, случившееся тогда: и то, что гонец Басманова благополучно добрался до Москвы, а его грамота – до государя, находившегося под Владимиром с основным войском, заставившим ливонцев убраться в их пределы, и что государь не промедлил выслать четыре полка стрельцов (а больше Москва и не могла так скоро дать, оставив на охрану столицы только кремлёвский полк!), и что лазутчики и предатели поторопились упредить хана, и тоже благополучно и скоро… И что командовать обороной взялся воевода Басманов, вздумавший отдохнуть на Оке, а не у себя в Елизарово.
Догнали, врезались в смешавшийся строй отступающих.
Федька рубил во все стороны, всё, что мог настигнуть и достать, отрубал руки, головы, наискось кроил плоть, досадуя, если удар приходился на доспех или лошадь. Попав ногой в кочку, его гнедой рухнул через голову, и Федька едва сумел выскочить из стремян, удара оземь не заметил, но перестал слышать, только ватный звон, и непрестанные взбрызги крови, развороченные внутренности, рёв и вонь смерти окружили его. Шлем куда-то укатился. Обе ладони, скользкие от крови, сжимая рукояти сабли и ножа до потери всякого чувства, как бы стали частью лезвий, и он перестал соображать, упиваясь насыщаемой убийством животной ненавистью. Он добивал падающих, пытавшихся сдаться, весь залитый кровью с головы до ног. Не известно, как его опознал в этом месиве Иван Шиловский. Воспользовавшись мигом передышки, когда, озираясь в поисках ещё живых, Федька споткнулся и принужден был опереться о саблю, Иван обхватил его сзади, удерживая. Основной отряд давно продолжил гнать и бить ханский «хвост», и вскоре надеялся принудить его бросить толпу измученных пленников, замедляющих движение… А окружённых и сдавшихся татар сейчас как раз вязали и обезоруживали, и из крепости к ним приближались ещё люди.
–Охолони, Федя! Ты нам всю царёву добычу угробишь!
Он хотел вдохнуть поглубже, чтобы вырваться, но голову вдруг страшно повело, всё погасло. «Да живой, живой! Невредимый», – сказал кому-то, подошедшему помочь, Иван.
Весь следующий день он пролежал в полуобмороке. Не понятно, то ли глохнул от тишины, то ли от нападавших вразнобой видений. Приподнимался за ковшом, помещённым рядом со свечой на лавке, но оказалось, что руки, стёртые в кровь и перевязанные белыми тряпицами, ходят ходуном и чаши не держат. Боль в каждой жилке была такая, что в глазах темнело. За ним ходила монахиня, придерживала голову и помогала напиться. К вечеру он понемногу оправился, и даже встал. На другой лавке рядом с высоким окном, по виду из которого он определил, наконец, что это комната в их воеводском доме, обнаружил свою саблю, налучье с колчаном, и даже вычищенные кольчужку и тегиляй, который так и протаскался без пользы за седлом. По счастью, и гнедой его оказался цел, только ногу потянул малость. Эту новость принёс мальчишка-стремянный, переданный ему пока в полное услужение. Шустрый малый, подумалось вскользь.
Вошёл воевода. Приблизился, взял его за плечи, посмотрел в глаза, и обнял, придержал на груди, с горячей нежностью. «Федька, стервец мой», – и ничего больше не говорил. Как ни туго пока соображал Федька, но понятно было – доволен. И шалость с Одоевским как будто что сошла с рук. Победившего не судят.
Внизу, на дворе, сидя за широким дубовым столом, легко раненый в ногу Буслаев с их управляющим и дьяком разрядного приказа переписывали поочерёдно подходящих людей, а также – их оружие и снаряжение. В листе книги под заглавием «6 октября Божией милостью жив» в столбец заносились имена:
Кузьма Лукьянов сын Щевеев,
Дмитрий Осипов сын Сатин,
Ортамон Ерофеев сын Бахметьев,
Василий Ермолов сын Кутуков,
Алексей Семенов сын Ивачев,
Лазарь и Родион Васильевы дети Карповы,
Ларион Иванов сын Сухов,
Климент и Роман Ивановы дети Кадомцевы…
Глава 4. Отблеск полоцкой грозы
Переславль-Рязанский,
октябрь 1564-го.
Ладони заживали быстро, только очень чесались. И, хоть весь он под одёжкой мнился себе как бы подранным кошками, но ни одной сколь-нибудь серьёзной отметины на виду не оказалось, и даже разбитая губа не выдавала уже геройского происхождения игривой припухлости своей. Похвастать следами битвы, и при этом не очень страдать – это было всегдашней мечтой, заветной, жгучей, особенно, когда в бане с отцом бывал, и видел его послужную летопись на всё ещё могучем теле. И – своё, гладкое, нетронутое, на котором и не отыскать сходу даже то малое, оставленное бесшабашным детством и учением. О суетном всё печёшься, укоризненно противненько измывался некто изнутри в ответ на всякую подобную мысль. А что, ежели, скажем, тебе бы нос оттяпало саблей татарской, или глаз напрочь выжгло шальной искрой, или ногу расплющило бы по самое седалище под рухнувшим гнедым, вот тогда бы каждому издали было видать, каков ты герой! Что, нет охоты этакими наградами хвалиться, а? Устыдивши себя, он кратко знамением снова благодарил Всевышнего за счастливое спасение. За то, что было ему на сей раз позволено себя испытать и со смертью сойтись коротко. И выйти победителем. А иного не мыслил. С того самого мига, на стене, когда несокрушимая орда неслась прямо на него, а батюшка с холодностью воли минуту для первого огня выгадывал, и вдруг всей оголённой животностью почудилась пронзительная, коверкающая тело боль безобразной раны от зазубренного жала стрелы в колено, или копья в живот, или сабли, рушащей единство плоти невозвратимо, под ослепительный вопль желающей избавления от мучений таких жизни, он решил для себя, что будет биться насмерть. Или – невредим выйдешь из полымя, или – не выйдешь вовсе. Иначе не бывать! Так и делал после… Чтоб если и умереть, то в вихре кромешном, даже и не заметив, что умираешь уже… Отец сдержанно хвалил за отвагу, а то не отвага была – ужас жестокий, что калекой останется доживать, что ни к чему не годным довеском родным на шее сделается, а жизнь-то мимо вся прокатится тогда. Нет, верно, тогда бы – со стены либо на меч кинуться, и конец.
Прошла неделя с больших похорон на новом кладбище, что сразу же раздалось и оперилось свежими крестами. Конечно, следовало ожидать здесь в скором времени ещё поселенцев, из тяжко раненых, безнадежных. Вот уж чья участь незавиднее всех, с содроганием думалось Федьке.
Отстояв панихиду, они возвратились в здешний свой дом. Озёрная усадьба Басмановых оказалась сожжена дотла, но его людям, по заблаговременности упреждения, удалось отсидеться по убежищам. В пепелище была и вся округа. Отступающие ни с чем ханские налётчики по обыкновению сожгли всё, что могли. Ничего, благо, до холодов отстроиться время есть.
Одно теперь только волновало воеводу, по большей части лёжа отдыхающему в своей горнице, – как скоро доберётся отряд посланцев до Москвы, с обозом богатой добычи и подробной вестью о победе, которую по праву он приписывал себе, как и единодушному мужеству населения, отозвавшегося на его призыв. Дела городские, как угроза гибели миновала, вернулись к прежним правителям и ведомствам, к которым воевода, исполнивши долг служебный, сделался равнодушен, и это всех пугало почему-то. Впрочем, ничто из произошедшего забыто им не было, конечно… И о том государю доклад его ещё предстоит, по всем статьям.
Работёнки сейчас хватало всем. Припожаловавшие, наконец-то, поместные князья со своими людьми были сперва заняты чёрною работой вместе с частью жителей – надо было как следует подальше оттащить всех мертвяков вражеских и схоронить, а то и сжечь в степи. Само собой, собрав предварительно трофеи. Одних коней наловили около пяти тысяч. А уж сабли, тесаки, ножи, кинжалы, копья, сулицы, рогатины, кистени, топоры, чеканы, шестоперы, булавы, луки, и наручи и наколенники, и прочие доспехи кожаные, и конское снаряжение было без числа доставлено для разбора на большой двор перед Приказом. Теперь не успевшие к битве помогали восстанавливать городские укрепления и строения, подымать затопленные суда, прочищать протоки и броды, и всячески оправдывать своё нерадение предыдущее. От Приказа воеводе исправно присылались отчётные грамоты под печатью Одоевского, ждавшего всё же часа объяснения с Басмановым, и не ведающего пока, что, малодушно впопыхах уступив наглости Федькиной, он тем самым спас свою голову. Не надо было быть провидцем, чтоб понимать, каковое положение дел может быть изложено государю, а то, что старый чёрт не пощадит никого, тут уж сомнений не оставалось. Уже пару лет за ним крепла слава ближнего царёва советника, сумевшего как-то оттеснить от сердца своевольного Иоанна всех прежних. Вместе и поодиночке готовились градоначальники к противостоянию, а покуда время шло. Вроде бы ходили даже и к владыке Филофею, но тот помалкивал, не корил, но и не утешал тоже. Впрочем, хоть и был он прислан из Москвы, впечатление создавал снисходительное, да и прежде, за два года ещё ни разу ни с кем из местного боярства не повздорил. На его заступничество и надеялись.
Чуя отцово ожидание, Федька не решался нарушать его уединение, хоть всё в нём клокотало накатившими переживаниями, и более всего на свете желалось выговориться. Да вот не с кем было… Мальчишка-стремянный ходил за ним хвостом, спал в сенях перед дверью, и кидался выполнять с горячностью любое его пожелание, сколь бы раз не был обидно назван и изруган за промашки. Федька, с досады на бездеятельное провождение времени, был жесток, требовал более выполнимого, знал это, но, чем дальше увязал в таком полудобровольном повиновении его подручный, обожающий, как язычник – идола, всё, что исходило от него, тем больше сам он входил во вкус начальствования. В конце концов, ещё недели две спустя, пренебрежительное "Эй, ты" сменилось на "Сенька".
Около полудня ненадолго просияло мутное солнышко, и у ворот возникло оживление. Князь Пётр Иванович Хворостинин с людьми прибыл из Москвы в Приказ с поручением для Басмановых от самого царя.
В скором времени при всём боярском собрании были поклоны, была торжественно зачитанная князем грамота, где во многих больших словах говорилось о благодарности государевой и радости его, о спасительном победоносном деянии их, о том, что ожидает государь Алексея Басманова и сына его Фёдора ко двору в ближайшее время, и было полновесное, нарочно монетным двором отчеканенное наградное золото[23 - наградное золото – золотые монеты достоинством в рубль, не имевшие официального хождения как денежная единица, чеканились царским монетным двором специально как особое вознаграждение подданным за большие заслуги. Двуглавый орёл, избранный Иоанном IV в качестве единого печатного знака его власти, впервые был помещён на гербовой стороне монеты, чем сразу определял принадлежность и происхождение этого варианта богатства. В то время повсеместно рассчитывались монетным серебром, медью, или золотом "на вес"( в основном – привозным или трофейным, так что чей герб и профиль был на них отчеканен, значения не имело, хоть Сигизмунда II). Наградное золото явилось началом массового собственного российского валютного производства, и могло использоваться владельцами по их усмотрению.], что с двуглавым орлом московским на каждой тяжёлой монете. Нельзя выразить, как ликовало Федькино сердце, сколь всего мигом пронеслось в видениях. От переизбытка их он едва не забыл креститься и кланяться в ответ. Стряхнувший зараз все хвори и мрачные думы, воевода, принявши порядком эти дары, уже по-дружески обнялся с Хворостининым, и, погодя, пригласил его отпраздновать у себя. Гадая, миновала ли гроза, или ещё ждать чего, боярство расходилось после положенного времени, а чаще прочих витали межсобойные предречения неминучей напасти в виде чертей-Басмановых, которые всех их угробят, только дай срок.
Засиделись допоздна. Князь с воеводой много пили, да и Федьке подливали. Толковали о полоцком походе, поминали многих, но больше добром. Федька не встревал, конечно, да и об чём ему было говорить. Позапрошлый январь под Полоцком запомнился ему небывалыми трудностями зимнего походного бытия, напряжением немыслимым всех сил его существа, нацеленных на примерное исполнение порученного, а обязан он был при государе быть во всех его парадных выходах на войсковые позиции, в числе свиты, и, как положено, подносить рынде третьего саадака[24 - рында – придворный чин при великих князьях и русских царях. Нечто среднее между личной стражей и эскортом, выбирались из красивых статных юношей благородного происхождения, и обозначало это начало служебной карьеры. Обычно в рындах ходили год, не больше, после чего было понятно, годен ли юноша к дальнейшему росту. Рынд обычно было четыре, они постоянно сопровождали царя во всех походах и церемониях, и в личных покоях тоже по его усмотрению. Когда царь совершал торжественные выезды перед войсками, рынды, в особых великолепных белых с золотом одеждах, несли впереди него атрибуты воинской и государственной царской власти, прописанные в специальном церемониальном уложении. Это было, помимо знамени, изготовленное со всей возможной роскошью оружие, в частности – саадаки, целых три набора. По причине слишком юного возраста Фёдор Басманов, представленный Иоанну в ходе военной операции по захвату Полоцка (зима 1562/63 гг.), был помощником рынды, носившего как раз третий царский саадак.] уставные регалии царского вооружения, да так же чинно вовремя принимать всё это обратно и убирать на хранение. Дело тут было не в постоянной озабоченности надлежащим внешним видом (за этим прислеживал распорядитель надо всеми рындами), и не в страхе что-нибудь перепутать во время выхода, а в том, что до настоящей войны ему ни разу так и не удалось добраться. Всё время при царских шатрах, и ни шагу тебе никуда. Мимо по дороге протаскивались обозы, пушки, месили грязищу со снегом, в непрестанной брани, множество служилых людей, часто – в ненастье, а зима тогда выдалась слякотная и хмурая. И среди этого, в сырой косой метели, ему отчётливо запомнился брат Хворостинина, Дмитрий Иванович, на коне, самоотверженно круг за кругом обводящий эту кашу строгостью направленных указаний. Воевода тогда был всегда где-то на передовой, где гремело день и ночь. И он ездил за государем по укреплениям среди других рынд и позади больших людей, из которых хорошо запомнил князей Петра Горбатого, Ивана Шуйского, Тимофея Телятевского и троих кабардинских царевичей, царскую родню.
А потом, в один из дней, сделалось тихо, пронеслось надо всем известие, что Полоцк взят. Мельком явившийся отец обнял его, наказал приготовиться к дороге. Государь препоручает ему доставить известие о победе Старицким. Почему поручено это было именно ему, Федька не знал, да и не раздумывал над этим. Однако кого ни попадя с победными реляциями да ещё к великим князьям не шлют, а значит, всё имелось у него необходимое для этого дела – и родовитость, и речью учтивой бойкое владение, и вид подобающий. И, к заслугам отцовским, отсутствие нареканий и за его службу, как видно. Гордость возликовала. Получив в сопровожатые троих ратников, с запасными лошадьми и припасами на две недели, он отправился за четыреста вёрст, до Старицы, что в тверском уезде. Об истинном положении дел в царском семействе и исключительной значимости великого князя Владимира Старицкого[25 - Князь Владимир Андреевич Старицкий – внук великого князя Московского Ивана III Васильевича, двоюродный брат первого царя Ивана IV Грозного. Единственный сын удельного князя Андрея Ивановича Старицкого (ум.в 1537) и святой княгини Евфросиньи Андреевны Старицкой (Хованской). Удельные князья – это прямые родственники и престолонаследники (помимо сыновей) ныне властвующего государя.]он узнает несколько позже…
– А Черкасский нынче на Москве особое дело имеет, слыхали? Пятигорских черкесов собирает под Государево знамя, – Хворостинин исподволь уже некоторое время наблюдал за казавшимся расслабленным, довольным Федькой. – Помнишь Михаила-то Темрюковича, Фёдор? Так вот, думается, и тебе там занятие найдётся.
Он кивнул, принимая из рук князя новую "заздравницу". Рында первого саадака, уж тогда парень видный, взрослый, возрастом вроде б уж не для этого чина, и очень свирепый. Предупреждённый, что это – брат нынешней царицы Марии, и с ним вступать в никакие споры не сметь, Федька терпеливо сносил его непомерную заносчивость. Казалось, к нему Черкасский был особенно нетерпим, а за что, понять было нельзя. Но было то очень унизительно, язвило такое отношение к себе, пусть и был он самым малым из царской свиты, и слыхал шепоток о том, что не достоин, якобы, чести такой, ни по летам, ни по рождению… А почему не достоин, когда испокон предки его при великокняжеском дворе бывали, и только козни старомосковской знати временами отдаляли незаслуженно их от законного места! Неужели он худороднее прочих, попавших в рынды – Ершова, Кобякова, Тимофеева, Вокшерина, Черемисинова?! Так возмущало это… Ну да, успели они послужить, себя показать поболее, да ну и что с того. И только теперь, уже начав кое в чём разбираться, постепенно укладывая в строй всё, что о ком видит и слышит, Федька подспудно как бы ощутил эту причину. Но сие оставалось на уровне чутья, а не знания. Из всего полоцкого времени вдруг всё чаще стало вырываться вперёд одно видение, яркое и пронзительное. До сего момента как-то он сам себе не признавался, что на самом-то деле прекрасно помнит, что за рука в драгоценных перстнях была тогда на рукояти кинжала, и перед кем подогнулись его колени. То был царь Иоанн Васильевич, которому впервые был представлен он, Фёдор Басманов, в Коломенском кремле, на красном ковре у большого крыльца. Лица государя он тогда не посмел разглядеть, ослеплённый всем его обликом в праздничном боевом вооружении. Был допущен подойти, поцеловать его руку. До него точно так же, преклоняя колени, прикасались губами к руке Иоанна Васильевича избранные к походу рынды. Но почему-то никого из них, обождав минуту, не заставил царь поднять лицо, сам поддержав легонько за подбородок. Федька тогда вскинул на него взгляд, и тотчас же опустил. Так робел, что и мыслей никаких не осталось. Но – чувство осталось. И вот теперь слово о Михаиле Черкасском вызвало во всей жгучести это появление и в памяти, и во всём его существе. Федька вспыхнул. Но сидел в тени, потому надеялся, что никто не приметил…
Заговорили о молодом князе Телятевском, которого государь тоже приблизил, как и Афанасия Вяземского, и весьма своевременно, так как Данила Захарьин-Юрьев при смерти, и по всему видно, что правлению Захарьиных, на которых государь опирался доселе, с угасанием патриарха семейства много угроз будет. Так, поминая прежнее, а больше новое, проговорили ещё немного. И Телятевского припоминал Федька. Андрей Петрович понравился ему тем, что среди прочих показался бесхитростным, и повадки имел прямые, понятные. О таких батюшка говорил как о добротном оружии, что служит верно господской руке, особо не разбирая, кто им размахивает, коли дело правое.
– Э-эй, Фёдор, да ты спишь совсем! – Хворостинин допивал свою чарку.– Да уж и нам пора, Алексей Данилыч. Завтра с зарёй ехать мне далее.
– Ну, добро, с Богом, князь, – Басманов кивнул, и позвал служку, повелев приготовить для дорогого гостя ночлег в его половине, – а я своё отвоевал, кажется. Авось, в Москве нынче свидимся!
На другой день начались сборы. Собирать-то особо было нечего, а ему – и подавно. Но хлопот отыскалось по уши. Первым долгом, прежде чем уехать по завершительным делам, воевода наказал ему отписать о благополучии к матери, по своему усмотрению. Почерк у Федьки был острый, неровный, а самые смелые и ладные завитки и росчерки заглавных буквиц выходили по случайности, когда вовсе не старался. Начиная же прилежничать, он только всё портил. Думая, что бы ещё сказать, кроме что живы и здоровы и в Москву вскоре едут ко двору, он вспомнил вдруг давнее лето, чистый гладкий ольховый стол перед распахнутым окном, и как записывал с её слов способы заготовления впрок огурцов и яблок, но как не тщился выводить строки ровно и разборчиво, получилось скверно (Петьку и того не заставить, может сейчас чуть поумнел). Зато вот перекладывать на свой лад сказы о Муромце, или там о Финисте-Соколе Ясном его не надо было упрашивать. Начинал рукой твёрдой размеренно, но всё ж и тут вскоре писание сваливалось стремительно вкось; в порыве неуёмной жажды высказать всю душу о волнующем, он щедро прибавлял от себя красок и дел невиданных, а также клякс, и обычно завершить славную повесть не хватало ни времени, ни места на свитке. Передавши объятие брату, приветы няньке Марфуше и Фролу, он перечитал, и усмехнулся. До того детским смотрелось это посланьице… Ничего-то из него не видно, не ясно, как бы и не было никакой осады, да и надо ли знать им больше, чем сказано? Разве говорил когда воевода о подвигах своих или тяготах, о сомнениях и бессонных ночах, или о том, как от ран выхаживался, в тех письмах, что читала им вслух Арина Ивановна? Говорил, что напасть разрешилась, и всё. Да и впрямь, надо ли беспокоить её, если всё счастливо завершилось. Одно дело – понимать, чуять, что за краткой как бы холодностью слов таких стоит, другое – знать и видеть это самому… Запечатал, как полагается, деревянным оттиском с перстня воеводы. Подумал, и присовокупил к грамоте обёрнутый куском сафьяна красивый засапожный ножичек, из приглянувшихся ему трофейных, мимоходом извлечённый из крайней кучи в сенях. Положил в торбу для нарочного[26 - нарочный – гонец, посланец, курьер.] назавтра, рядом с отрезами шёлка и платками, тоже в подарок. Отсылали и денег на особый случай, но сейчас без охраны много посылать по такой дороге было не умно.
Скучал ли он по дому, который часто снился? – Нет, пожалуй, решил Федька, пощипывая мочку уха с небольшим золотым кольцом, которым его снабдили по получении места в государевой свите, как велел негласный обычай всех рынд. И которое он не хотел снимать.
Воевода вернулся с умельцем-швецом[27 - швец – портной]от Строганова. У его молодой жены, Ольги, щеголихи, раскрасавицы, рукодельницы несравненной, для Рязанской митрополии в дар своими руками вышившей белый плат жемчужный работы удивительной, в мастерской брались обрядить их обоих "по высшему разряду". Федька глядел на разложенные перед ним куски парчовой материи, и ему нравилось всё, однако выбрать было нужно наверх что-то одно. Привычка воспитания нашёптывала о скромности, тем паче что батюшка был обычно к нарядам равнодушен, и всему предпочитал добротность и строгость. Роскошь признавал только в оружии. Никогда не носил он ни ферязей[28 - ферязь – длинная верхняя одежда боярского сословия, шилась из дорогой ткани, украшалась вышивкой, жемчугом, золотом, мехами. Рукава ферязи походили до пола, имели прорези на уровне локтей для рук, и могли подбираться в складки, удерживаемые на запястьях браслетами, или завязывались за спиной.], ни шуб в пол, ни ожерелий меховых, хоть и положено было по чину думному, и даже зимою накидывал обычно одну бекешу[29 - бекеша – короткий тёплый кафтан на меху. Качество ткани и меха определялось достатком и положением. Обычно так, по моде, одевалась "продвинутая" дворянская молодёжь в Москве.]. И сейчас вот отдал подновить свой синий бархатный, едва ли хоть раз надёванный кафтан, да всю навесную «канитель» чтоб переделали на позолоченную, ну и опашень подбить бобром заново. Федьке же предоставил полную свободу и час времени на все обмеры. Тот и рад бы выбрать что поскромнее, но среди предложенного такого не нашлось. Ничего Алексей Данилович не делал спроста. Ну и ладно! Федька указал на самое яркое, червонное, сплошь затканное золотыми соцветиями. Под стать новым сапогам.
Приоделся и Сенька. От счастья бледный, выслушал он договор между отцом и воеводой Басмановым в том, что временная служба его может стать постоянной, если и впредь будет проявлять столько же рвения, умения и расторопности, и что, если отец его, скорняк Тимофей Светлой, не против лишиться своего подмастерья, ехать тому при воеводском сыне в Москву… Мог ли мечтать о таком! Когда по поручению отцовскому, в канун осадной битвы, оттащил из мастерской починенный конский убор в дом царского воеводы и плату получил, и уже обратно бежать собрался, да услыхал во дворе окрик молодого боярина, Фёдора Алексеича, спешившего куда-то: «Эй! Да, ты, поди сюда! Ты от шорника? В сбруе соображаешь, стало быть? Коня распряги и денник конюхам сведи быстро!». И кинул ему медяк за труды.
Москва,
ноябрь 1564-го
В кремлёвских покоях воевода держался свободно, как у себя на подворье. Постепенно и Федька перестал стискивать нервно зубы и кулаки, дыхание выровнялось. Он устал переживать, всецело положась на отцову мудрость и Божью волю. Раскланялись с князем Мстиславским у входа в Святые Сени. Были здесь уже и Захарьины, воспитатели при малолетнем царевиче Иване, и князья Вельские, и старший Телятевский, и ещё с десятка два думных бояр.
– Салтыков, Лев Андреевич, – тихо пояснял воевода в промежутках всё новых взаимных чествований, уже по одним чертам которых можно было предположить, как кого принимают, – оружничий государев. Рядом Яковлев с Серебряным, из опалы восстановлены, как видно. А вон и Челядин, конюший, пройдоха, с ним ни полслова. Сицкий-князь, тоже государю родич… А, Василий Андреич, поздорову ли?
– Да тут, похоже, легче бы немым прикинуться, – Федька отчаялся сходу упомнить всё. И хоть по дороге воевода время от времени излагал ему, кто тут есть кто, условно делимые на "своих" и "противных", Федька всё ж запутался. Выходило, что и своим доверять не следовало, и от противных не отворачиваться. Через сводчатые проёмы над шапками перелетали глухо и монотонно отголоски и шуршание одежд. Красота росписей тут была необыкновенная. Неожиданно Федька напоролся на надменный взгляд Михаила Черкасского, перешедшего из рынд в полковые начальники. Они тоже раскланялись.
Князь Афанасий Вяземский вошёл горделиво, особо никого не выделяя почтением, и за ним – единственное приятное и знакомое лицо, Иван Дмитриевич Колодка-Плещеев. Федька, увидав его, испытал некоторое успокоение. Между прочим сравнивая свой наряд с парчовым кафтаном Вяземского, показавшегося Федьке самым тут статным и молодым, не считая Черкасского, он убедился, что не уступает ему ни в какой степени. Разве что позавидовал легко независимой повадке держаться, с которой Вяземский как бы плевал на всех вокруг.
Салтыков, исполнитель обязанностей царского дворецкого, стоя у раскрывшихся дверей думной палаты, обернулся к собранию, приглашая всех войти. Далее, рассевшись по обеим сторонам палаты, стали ожидать появления государя.
Исподволь озираясь, Федька недоумевал, как это он мог проходить у стремени царского почти три месяца и ничего не разглядеть толком.
Все разом стали подниматься, держа снятые шапки у правого бока. Вошёл царь Иоанн Васильевич.
Разогнувшись из поклона, Федька впился взором в его высокую широкоплечую фигуру, поднявшуюся по четырём ступеням к обитому золотом трону. Рынды в белоснежном великолепии, с сияющими серебряными бердышами в руках, в золотых цепях крест-накрест, застыли за ним, в шести шагах по обе стороны, и у дверей.
Ни на кого не был похож ликом царь. И голосом главенствовал надо всем, хоть говорил не громко. Наперво обратился он к тётке своей, Евфросинье Старицкой, с сочувствием по кончине старого князя, десять лет назад приключившейся в тяжкое для всех них время, да теперь вот милостию Высшей мир меж родами царскими установился. Помятуя о батюшкиных суждениях о предстоящем перекрое в ближнем государевом кругу, Федька попытался собраться со вниманием к происходящему, но вникнуть в суть речей вызываемых к ответу государем бояр, хоть и слышал и понимал каждое слово, не мог, и даже не потому, что упоминались имена и случаи, ему по большей части не ведомые, кроме самых главных, о которых, опять же, воевода давал разъяснения прежде. Голос царя смущал. Слышался ему необычайным, и проникновенным, и даже кротким местами, и тотчас – отчуждённым, льдистым, затаившим не обиду – гнев. Федька смотрел, слушал, ощущал всеобщее напряжение, точно и все, как он, ждали чего-то внезапного, и страшного для себя, а желали благодати от него. Но сегодня, видно, был особый день, и гнев, который Федьке явно виделся в чертах царя под странной печалью, покуда он выговаривал укоризненно собранию о желанном единстве, так и не выказал себя. Через малое время молчания Иоанн посветлел челом, и заговорил о недавней рязанской победе. Их победе! О том, что деяние это уберегло не одну Рязань только, а и всю Русь от скорого поругания, и время, что выгадано теперь для них всех, чтоб с силами вновь собраться, неоценимо будет. Федьку подкинуло с места собственное его имя, произнесённое устами царя вслед за именем его отца. Им велено было приблизиться.
Воевода поцеловал руку государя и благодарил его от обоих, и поднялся, отошёл вниз и в сторону, а Федьку оставил на коленях перед ступенями. Государь спустился к нему сам. Веяние тяжёлой золотой парчи колыхнулось прямо перед ним, рука, красивая и сильная, в тяжести сверкающих камней, как тогда, но гораздо чётче видимая теперь, коснулась его. Жёсткие тёплые, пахнущие ладаном пальцы приподняли за подбородок его лицо. И он не опустил глаз, не смог оторваться от неотвратимости всматривающегося в него Иоанна. Губы царя жёстко дёрнулись, а тьма очей из тени вопрошала саму Федькину душу. И он не знал, что делать, надо ли что делать, можно ли дольше молча отвечать ему, но и не отвечать невозможно, когда тебя мгновенно и до дна всего забирают.
– Подымись, Федя. Да не отходи далеко от меня, – и царь кончает пытку, позволив ему выдохом прижать губы к тёмным венам тяжёлой от перстней руки.
Было до странности тихо, как будто что-то шло не как всегда. Всё собрание смотрело на них молча, в молчании этом Федьке явственно слышалось недоумение общее. С облегчением Федька почуял на плечах своих мягко-ласково помогающие встать и направляющие ладони седого боярина, доселе незаметного, появившегося откуда-то из-за царского возвышения. Отведя его по ступеням вверх, прямо к трону, с добродушной и даже какой-то домашней улыбкой посоветовав шепотком лукавым не опасаться ничего и взбодриться, дядечка этот оставил Федьку стоять за спинкой царского кресла, за левым государевым плечом. Тут уж Федька не вынес, опустил ресницы, ни жив ни мёртв.
Алексей Данилыч незаметно для всех осенился крестно, переводя дыхание.
Далее, в громадной дворцовой трапезной, он очнулся от потрясения не сразу. Воевода сидел около царя, и они тихо переговаривались неподалёку. Прочее собрание вкушало угощение неторопливо, и время от времени ходили меж столами чашники, подавальщики и прочая челядь. Федька отведал мёду из своей чаши, уловив одобрительный жест воеводы. Тут рядом оказался тот же дядечка, улыбаясь беззаботным хмельком, подал послушному Федьке драгоценный золотой кубок с красным виноградным заморским вином и подмигнул:
– Звать меня Иван Петровичем, а я ещё деда твоего, соколик, помню. Красавец был мужик Данила Басман Плещеев, вот во всём толк понимал! Батюшке государя нашего, князю Василию Ивановичу, верой-правдой, во всякое время, и душою и телом служил, жаль только, больно головушка буйна была. А и ты, смотрю, весь в него, да ещё краше. Поди-ка, поднеси государю вина. Обойди слева, да подай справа, с поклоном поясным. И не отходи, пока не отпустит. Ступай.
Федька и сам не понял, как уже выполнял наказ. В груди бухнуло – царь с улыбкой смотрел на его руки, и принял кубок, обняв на миг ладонями его пальцы. От такого знака особого благожелания он оторопел ещё больше.
– Слыхал ото многих, храбро ты бился, Федя. А скажи, не страшился ли хоть немного? – и государь одобрительным вниманием будто приобнимает за плечи его, в очи заглядывает. – Не жаль ли тебе было жизни своей цветущей?
– Было, государь, – отвечал он, выдохнув, наконец, не в силах и малейше лукавить сейчас. – И жаль было, и страшно тоже.
– А отчего ж не бежал, не прятался?
– Так… стыдно же! Уж лучше пусть страшно.
Царь смеялся, и просил ещё вина принести. Улыбался довольно и отец, которому на ухо нашёптывал Иван Петрович, покручивая седой пышный ус. Федьку помаленьку отпускало как будто. И как будто побоку пристальные взоры, отовсюду на них недобро кидаемые.
Но в темноте опочивальни, в московском доме на Никитской, вымотавшись за этот день хуже, чем в первые осадные сутки, он всё не мог уснуть. И вроде же распрекрасно случилось всё. Отчего так муторно и жутко… От себя, что ли, от царя, так близко бывшего, что всё мерещится, но и не верится? Верно, слаб он рассудком, раз от ласки государевой едва не околел на месте, а теперь вот мучается без сна и весь трясётся.
Отец повелел отдыхать как следует, сказал, завтра разговор обо всём будет. Завтра так завтра.
– Батюшка, а кто он, Иван Петрович этот?
Воевода ответил не сразу, пристально присмотревшись к сыну. Подошёл, погладил по шёлковым тяжёлым кудрям. Федька перестал жевать завтрак от неожиданности.
– Князь Охлябинин кто? Родича не признал?!
– Как признать, когда ни разу его не видал… Я думал, другой это Охлябинин.
– Не другой, тот самый, что на сестрице троюродной твоей женат. Постельничий[30 - Посте?льничий – старинная должность придворного, в обязанности которого входило следить за чистотой, убранством и сохранностью царской постели. Постельничими обычно назначались самые близкие к царю бояре. При царе Иване III постельничими служили сыновья боярские: Еропкин, Карпов (ставший затем известным дипломатом). Дипломатические миссии в Литве выполнял вплоть до гибели там в плену и постельничий князя Василия III Данила Андреевич Басманов-Плещеев.При вступлении в должность постельничий присягал хранить государеву постель от колдовства и волшебства. Постельничие ведали спальниками и всеми людьми, служившими при государевой спальне. Постельничие получили определенное место на лестнице придворных чинов и точнее урегулированное ведомство, состоявшее, кроме ведания постели, в заведовании всей "постельной казной" князя (иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и т. п.), а также шитьем платья и белья, вследствие чего в ведомстве постельничего находились мастера этого дела и мастерская палата. Постельничий был ближайшим слугой государя, пользовался его особым доверием; он спал с ним в одной комнате (либо в смежных), ходил с ним в баню, сопровождал его в торжественных выходах, наблюдая, чтобы стул, скамеечка под ноги и другие необходимые государю вещи всегда были к его услугам. Если сам постельничий не мог следовать за государем "со стряпнёй", то назначался иной чин, но с оговоркой, что он идет "стряпнёй вместо постельничего". В распоряжении постельничего состояли стряпчие ("со стряпней") и спальники. Если кратко, "расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать"(c).] государя. Личных покоев главнейший распорядитель. Ты же знаешь, Данила Андреевич тоже постельничим служил, до Ливонского плена.
«Красавец был мужик Данила», «вот во всём толк понимал», – вспомнилось вдруг. Федька добил коврижку, запил сладким малиновым отваром.
– А про него ты никогда не сказывал, про князя-то. Чудной какой-то.
– Сказывал, только ты не упомнил, мал был. Ну так в его ведомстве тут не военные дела, и никому он не служит, кроме царя, а охраняет только постель царскую. Однако, и воеводствует тоже исправно.
"Да ещё краше", – вспыхнуло в памяти. Федька смотрел на присевшего рядом отца, не зная даже, что и спросить.
– А что теперь дальше будет? Домой не едем покуда?
– Что б теперь не было, Федя, ты только одно знать и помнить должен: слово царя – закон, и чего бы не пожелал он, всё исполнишь. Понял ли? – воевода смотрел в его глаза с твёрдостью железной, и хоть рука его нежно поглаживала Федькино плечо, но воля этого приказа заставила замолчать надолго…
Он как раз занимался с Сенькой метанием ножей в деревяшку на столбе во дворе, когда в ворота стукнули.