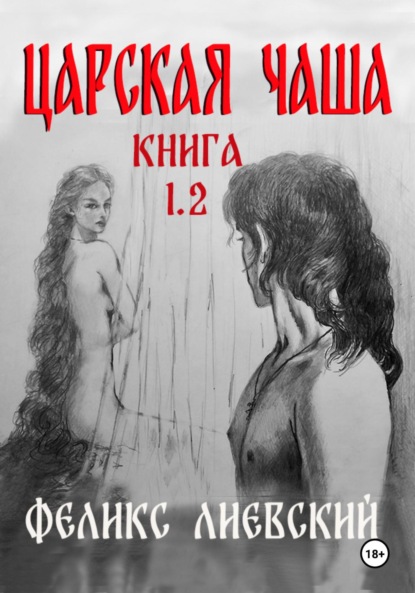
Полная версия:
Царская чаша. Книга 2
Федька с протяжным стоном бессилия отодвинул рукопись, запрокинул голову и прикрыл глаза.
Его сейчас тянуло на конюшню больше всего.
Посты прошли, и государь возобновил свой интерес к прежним забавам, ежедневно теперь бывая, один или с царевичем Иваном, то на бойцовском поле, то на литейном подворье, ну и на конном, с вожделенным восторгом наблюдая бесподобных красавцев-аргамаков, коих там выгуливали и объезжали для высшего искусного боя. Ценил он и высокорослых крепких помесов с дончаками и теми, пригнанными из немецких земель, носящими название «дестриэ»92. Кони то были могучие, сильные и податливые в обучении. Батюшка питал к ним большую приязнь, себе такого приобрёл тоже… Но прокорм такой скотины дорого обходился казне, да и считалось, что аргамакам, бухарцам и аравийцам, всё же, нет равных по выносливости и стойкости к хворям и холодам, а уж сообразительностью они превосходили иных людей намного. Особо хороши колхани93! И в походе незаменимы. А недавно Федька узнал о том, что на Москве, в Конном ряду, у Ахмета, опять появились колхани-сиглави, соединившие в себе рост, силу и выносливость одних и несравненную тонкую лебединую красу других… Те, серебряные, были как раз из таких! И чтоб доказать государю, что он подобного коня достоин, проводил теперь Федька время в единении со своими вороными, а выучивали их совместно, конечно, Шихмановские наилучшие мастера.
Опыт то был ценный, много чего Федька открыл, и к заключению пришёл, что Элишва, уступая Атре в росте, лихости и зловредности, в силе бешеного порыва набрасываться и биться со всем, что ему виделось враждебным, – в бою достоинства необходимые, вестимо! – зато чует его, хозяина своего, внимательней, и спокойней, и как бы умнее. А вынослива не менее жеребца. Недавно выучил её на посвист особый наземь ложиться! Затаиваться, и лежать так тихонечко, пока сам не подползёт и не поднимет, касанием или шёпотом, или по обратному свисту не позовёт к себе. Шихман подсказал, что можно такие штуки с аргамаками проделывать, и ещё не такие, что не всякая жена тебя так верно понимать станет, как подобная кобылица, но… на то нужно времени лет несколько. И чтоб ты жил с конём своим, спал возле него, ел вместе, и был в целом неразлучен. То же и Кречет подтверждал. Кречет, иной раз на таких уроках бывающий и наблюдающий и за своими сотоварищами, и за учениками, отметил, что сила-силой, а вот в ертаульном карауле94, в поле, иль близ вражеского стана, скажем, такому коню, разумному и послушному своему ездоку, цены нет.
И ежели поход случится, по зиме особенно, то лучше ему Элишву под себя взять, а уж Атру, совместно с царскими чтоб блюли, с собою в поводу вести. Для боя… Ну а гнедого, старинного верного своего – на пересменок в пути, если вдруг, не дай Бог, что с другими случится… Или вовсе Атру в бой не вести, жалко уж больно.
Много раз мелькали перед мысленным взором его татарские злые стрелы, которые вонзались во всё вокруг, и в шею и грудь благородных коней, заставляя их кричать и негодовать от боли, точно люди… И как они падали, подминая всадника, не успевшего понять, что конь под ним погибает… И вот как, как этакое сокровище, этакий Дар Божий загубить возможно… Федька мотал головой, гнал мысли, которые почитал неправильными, потому что жалость делает слабым. А воину слабость – главный враг! Так повторяет Кречет, наставляя его. Он заставлял Федьку мучиться несказанно бесконечными повторениями того, о чём говорил, и что показывал, своим телом, и твердил, что первое правило непобедимого воина – отказ от слабости любой. Даже друзьям своим не можно об том сказать, что тебя уводит от цели, что мутит и делает бессильным. Никому нельзя! Богу только, разве, прося избавления… Тогда все слабости твои в тебе, как без пищи, без чужого сочувствия, или злорадства тайного, что опаснее сочувствия стократ, умалятся и перестанут тобой править. Как не должен править добрым конём малодушный и робкий наездник… Эти слова крепко запали.
Федьке подумалось тогда впервые, что здесь у него не осталось друзей, да и не было, как бы… Захар где-то там далече, в своих заботах, а Чёботов пока что и друг, и нет, хоть видится в нём честное сердце. Разница есть меж ними, откровенности полной претящая. Прочие немногие – так, приятельство разве, да и то по необходимости, коли вместе все возле государя вертимся. Да и на дружбу время требуется вместе, опять же, а времени у него совсем не было.
Есть Сенька, правда… Вот ему поболе других про Федькины страхи и слабости известно, даже отцу неведомы все его терзания тайные так, как Сеньке. Всё же на глазах ежедневно. Когда так близко – и говорить не надо, видит один другого без пояснений. Сперва это внезапно осознанное положение озадачило и напугало даже, ведь как же тогда выполнить условие Кречета и неприступным оставаться. Но тепло при воспоминании об смышлёности и преданности Арсения вскоре победило эти беспокойства. В конце концов, и он не обо всём может догадаться, а услуги его бесценны. Есть же у батюшки Буслаев, и ничего, никаких за воеводой слабостей отродясь Федька не примечал! Надо бы как-то поддержать его, небось, мается содеянным смертоубийством, ни словечка никому не говорит, а самому тяжко… В остальном же ощутил Федька, что ни в ком более не нуждается, и ни в чьём таком участии сердечном.
Кроме Его – Государя своего…
И тут же Федька просмотрел тогда удар – его напарник, тоже ученик-первогодка, из донских, ещё не осведомлённый достаточно о том, кто таков кравчий царский, и потому без стеснения сражающийся с ним в полную силу, огрел его слегой. Пришлось прерваться, принять нахлобучку Кречета за посторонние помышления… А ежели государь в мыльню с собой позовёт, скажем, то и от него ещё достанется. Пошто опять шкуру испортил.
Кажется, всё б отдал сейчас за эту государеву баню…
Александровская слобода.
Январь 1566 года.
– Яничанин, прям!95
– Он! Он и есть…
Оба говорящих со стороны, с безопасности, за загородкой стоя, кивали, опираясь на свои клюки, пришлёпывали скрытыми в сивых усах ртами и жевали, от переживаний, и изредка даже утирали незримую слезинку, докучливую спутницу стариковских глаз. Но опирались они на посохи свои довольно стойко, и выстояли всю картину, налюбовавшись вдосталь резвой и хваткой, неистовой ловкой игрой всадников и коней, и их воспитателей-хранителей. И сейчас восторгались оба вздыбленным и замеревшим свечкою Федькиным вороным, послушным твёрдой его воле.
Один был Прокопьич, многоучёный потомок владимирского дьячка тот самый, что истины из «делания умного» неустанно изрекал, и сам отец многих детей, из коих один только сейчас жив оставался, да и то – по неслыханной милости литейного мастера тутошнего, в его талантах, видимо, пока что уверенного. Сын последний Прокопьича был женат, несчастно, для жены своей в особенности. Потому что пил беспробудно, спуская часто монетное довольство в том же Царёвом кабаке, как многие, сопричастные этому делу. То есть, приготовлению и проверке перед использованием государева огневого оружия, пушек, посредством стрельного зелья96.
Пушек в Слободе не отливали, только колоколы – мало тут и места было, да и дорог широких, по коим готовые их можно было бы развезти по надобности. На то отдельный Пушкарный двор в Москве соорудили. Там одарённый, но беспутный сын Прокопьича выучился мастерству изрядно, но за пьянство был изгнан из мастерской, и теперь обретался тут при отливе колоколов, под началом старшего мастера, само собою… Впрочем, и здесь иные «пушкари» находили себе окаянное пойло, хоть заведения никакого подобного не было, а в погребах перед хмелем изобильным поставлена была стража, предупреждая злоупотребления. Мастера жаловались самому государю, что работники нетрезвы часто на место испытания являются, а дело то не терпит небрежности. Тот дозволил нарушителей сечь розгами, и даже кнутом, ежели по их вине случалась потрава работе. Но ничего не помогало! Пушкарная обслуга, и даже младшие мастеровые пили, и ни битиём, ни пряниками, ничем их не получалось урезонить… Одному Кашперу Ганусу97, пожалуй, не на что было жаловаться – в обучение и помощь ему посылались самые трезвомыслящие.
Второй же был отцом именитой дворцовой кухарки, которая самому царскому повару иной раз советовала, и дельно всё, с учётом государева предпочтения и недомогания98, часто происходящего от полуголодного многострадального детства…
– Норов не очень. Зато глаз радует!
Оба старика согласно покивали, а Федька тем временем оказался в середине загонщиков, одетых в доспех и с разными гремящими штуками в руках, коими размахивали, наподобие боевого оружия. Роняя пену и злобно рыча, Атра не пугался, а желал броситься на врагов, и, выучке и седоку подчиняясь, снова поднялся на дыбы, прыгнул на задних копытах навстречу самому большому и страшному из нападающих, молотя в воздухе ногами передними, так что всякому, под них попавшему, было б несдобровать. Федька при этом рубил направо и налево затупленным сабельным клинком, так что к нему приблизиться никому не удавалось. Приземлившись, конь вихрем крутанулся и, поощряемый наездником, распустивши хвост чёрным крылом, ринулся в возникшую в кругу нападающих брешь, с намерением напасть на всякого, кто покажется ему враждебным.
– Добрый конь! Хоть и злой аки чёрт!
– Вот же как выходит – что тот добрее на деле, который злее!
Оба посмеялись, опять друг другу кивая.
Тут позади них, с небольшого отдаления, донёсся негромкий одобрительный смех государя, уже какое-то время назад подошедшего с малой свитой, и тоже любовавшегося зрелищем. От неожиданности оба старика чуть не подпрыгнули, попятились, согнулись в попытке пасть на колени, срывая шапки. Но государь милостиво кивнул им и показал рукою подняться. Сам же устроился на поднесённом малом кресле с ковром поверх сиденья.
Федька обогнул двор по кругу и возвращался, а ему наперерез кинулся и встал, раскинув руки крестом, здоровенный детина в широченном лохматом малахае. Но Атра не струсил и тут, как любой бы обычный конь сделал, и не принял это за приказ остановиться. Летел на супротивную страшную фигуру, и детине пришлось увернуться с его пути.
Весьма довольный и собою, и жеребцом своим, а в особенности тем, что заметить успел государя, за ним следившего, Федька остановился напротив него и сопровождавших. Тут же подбежали конюхи с покрывалом и полотенцами, уберечь взмыленного жеребца от простуды. Сияя улыбкою, оканчивая на сегодня конюшенные упражнения, он соскочил с седла, потрепал успокаивающегося быстро Атру по шее и приласкал, поблагодарив его крохотным лакомством, горстью изюма, которую тот подобрал из ладоней не менее уставшего господина горячими замшевыми жадными губами, отдал его заботам конюхов, ещё некоторое время отхаживающих жеребца по кругу, давая ему остыть. Сам же низко государю поклонился.
– Слышь, Федя, сколь метко об тебе Прокопьичем сказано: "Норов не очень, зато глаз радует". И мне б не сказать метче!
– Так ить!.. Я ить… Помилуй, Царь-батюшка, я ж то об скотине… – раздалось просительно-испуганно со стороны вблизи.
– Да что же ты извиняешься, старче, коли правдиво изречено! – успокаивая старика, а глядя на кравчего, мягко отвечал государь.
Федька, и без того разгорячённый, зарделся пуще, всё ещё глубоко дыша и откидывая с лица влажные кудри, в притворном смущении опуская ресницы, укрывая ими блеск плотоядно-довольных глаз. И скидывая на руку подоспевшего с поклоном стремянного чёрный простой кафтан, оставшись бесстрашно на лёгком, но настырном ветру в становом тонком златно-шёлковом терличке, темнеющем обширными пятнами пота, прилипшим на спине и груди… И приметливый Прокопьич, подслеповатость коего лишь видимой была, наверное, произнёс уже уверенно и благостно, никому – и всем:
– Впрочем, вот и святой Игнатий говорит, – и, видя, что Иоанн с нескончаемой улыбкой за всем наблюдает, а его кравчий, в накинутой на плечи шубе, в шапке стоит перед ним99, поднял в подтверждение своих слов указующий перст, коряво присогнутый, и завершил: – Почему и зачем в самых первых основах, во милости своей, Бог вложил в человека не только надобность во внешнем деянии, но и во внутриутробной, умозрительной работе, что выражено в созерцании… Не в беглые беспричинные мечтания ударяяся, но в видовосприятие в себе чистой красоты, и тем имея возвеличивание в себе воистину умного делания! А через то – и Бога, и творения Его.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Старинный ритуал русской свадьбы – это сложное дело, состоящее из нескольких неукоснительно соблюдаемых этапов. Чем выше социальный статус, тем сложнее условия брачного процесса и длительнее время общего события. Сватовство, если оно оказалось удачным, затем – смотрины невесты (в высших сословиях жених обычно не присутствовал), затем – погляд жениха родственниками невесты (если прежде они его не знали лично, конечно), после главная часть для обеих семей – сговор и рукобитие, то есть – согласование приданого невесты и взаимных имущественных вопросов. Когда сговор произошёл, невесте и жениху разрешено встретиться, происходит обручение (то, что позже было названо в обиходе помолвкой). После обручения и до свадьбы (и венчания в приходской церкви или домовом храме) жених и невеста не видятся. Иногда между сватовством и венчанием проходило несколько месяцев.
2
по русской традиции женщина, никогда не бывшая замужем, носит в миру всю жизнь девичий сарафан (только тёмных, неярких цветов), и девичий головной убор, а также – одну косу.
3
По закону родители имели право передавать вотчины во владение сыновьям, по достижении теми семнадцатилетия. В нашем случае очевиден неравный брак (если князь ещё мог взять женой «простую» – боярыню или дворянку, то уж выдать княжну не за княжеского отпрыска было редким явлением). Потому, в качестве аргумента полной состоятельности жениха, за ним как бы тоже давалось солидное приданое.
4
Дьяковская церковь (Храм Иоанна Предтечи) – прекрасный памятник архитектуры 16 века, в Коломенском. Некогда там располагалась деревня Дьяково, церковь называют так по имени той деревни.
5
Мусийная икона —т.е. мозаическая икона. До 18 века мусией или мусикией (от от греч. «мусейос» – связанный с музами, посвященный музам) называли искусство подражать живописи набором мелких цветных камней и стекол. Также называли расписную эмаль (финифть)
6
Скобка – модная, очень распространённая форма мужской (и детской) причёски на Руси. Когда все волосы острижены одной длины, чтобы укрыта была мочка уха.
7
Гороховец – город во Владимирской области, на реке Клязьме. Некогда он был процветающим купеческим городом, находясь на половине торгового пути от Нижнего Новгорода до Москвы. Судоходные реки, особенно Волга, играли решающее значение в транспортировке грузов, и город процветал. Гороховец – это чудо, достойное особенного разговора, из-за множества памятников архитектуры, среди них – и 16 века, потому что дотуда не добрались, к счастью, ни петровские, ни елизаветинские реформы, и шатровые храмовые и жилые теремные постройки там почти не тронули. А по старинному этикету этот город отдавался в правление на год придворному боярину при получении им высокого чина, и в знак особого царского расположения. Это назначение, помимо престижа, прибавляло существенный доход. По Разрядным книгам известно, что в годы опричнины наместником в Гороховце побыли, среди прочих, князь Михаил Черкасский и кравчий Фёдор Басманов. Это очень красивое место, и в Гороховце находится та самая мистическая Лысая гора.
8
Князь Лобанов-Ростовский в одном из посланий королю Сигизмунду очень прямо излагает одну из причин недовольства знати царём Иоанном: «Их всех государь не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей, а нас ими теснит; да и тем нас истеснился, что женился, у боярина у своего дочерь взял… рабу свою. И нам как служити своей сестре?». Несомненно, подобные претензии царь слышал иносказательно тогда от многих думных бояр и князей. Он не выбрал никого из дочерей великих князей, то есть – равных себе, Рюриковичей. Их возмущал выбор царя, как, впрочем, всегда… Вчера бояре Захарьины-Юрьевы были у них на среднем счету, а сегодня все обязаны им кланяться и почитать их девицу в ранге госпожи-царицы.
9
Архиерейский камень – на Руси так называли аметист (второе название – варени́к, точное происхождение этого названия не известно). Считалось, что аметист охраняет от помутнения рассудка, порчи, сглаза, приворота, тёмных сил всяких, и нехороших соблазнов. Потому часто им украшали праздничные богослужебные облачения священников высших чинов (отсюда «архиерейский»).
10
Князь Бельский Иван Дмитриевич – думный боярин, воевода, представитель одного из главных старейших московских родов. Совместно с князем Мстиславским Иваном Фёдоровичем (начинал службу кравчим при молодом государе, позднее был постельничим, видный военачальник, думный боярин) руководил земской Думой. Безупречной службой и повиновением оба заслужили доверие царя, и их авторитетом в земщине и лояльностью пользовалось опричное правительство для влияния на земскую Думу. В годы опричнины доносы на первых бояр думы были обычным частым делом. Однако каждый раз царь оставлял их без разбирательства: «Я и эти двое (удельные князья Бельский и Мстиславский) составляем три московские столпа, – неизменно говаривал он. – На нас троих стоит вся держава» (цитируя Р.Г. Скрынникова).
11
Печалование (т.е. заступничество) – традиционное некогда (до Грозного неоспоримое) право патриархов церкви, митрополитов, просить о помиловании осуждённых на казнь либо другое суровое наказание. Это право было приоритетным, государь был обязан уступить печалованию. Но Грозный, учреждая опричнину, одним из главных пунктов согласия вернуться на царство поставил ограничение такого полномочия церкви. Он хотел, чтоб в его судебные решения не вмешивались «попы» (как частенько именовал священство Грозный в устной и письменной речи), чьими услугами для самозащиты пользовались вся знать, избегая заслуженного наказания.
12
«Анастасия Фёдоровна отправила гонца к Сицким в восьмом часу вечера» – традиционно сватовство происходило поздним вечером или даже ночью, чтобы максимально избежать сглаза и порчи.
13
Корильные песни в ходе свадебных обрядовых действий происходят корнями из глубокой древности, когда нарочито обидными – укоряющими – и обвинительными словами (преимущественно в адрес стороны жениха) отпугивалась нечисть, всевозможные негативные потусторонние вмешательства и сглаз участников события и самого мероприятия. Конечно, никто на них никогда не обижается, напротив, они вносят оттенок шутливости, игривости, и способствуют созданию нужной атмосферы действа, задорной и сакрально-праздничной.
14
Белой казной называлось имущество царского дворца, ткани и одежды цариц и царевен, украшения, убранства, церемониальные атрибуты. Всё это тщательно хранилось, передавалось по наследству или дарилось на главные в жизни торжества. В основном – свадьбы.
15
Убрусы – традиционный элемент головного убора замужней русской женщины высокого социального статуса. Особым образом повязанный плат, из дорогой ткани, часто с богатой вышивкой, оставляющий открытым только лицо (как в фильме Эйзенштейна у царицы Анастасии). Поверх обычно надевался венец с подвесками, или шапка.
16
«по виду ног их всех» – по обычаю, сваты всю дорогу до порога невесты не разговаривают, едут окольными путями подальше от встречных и любопытных глаз, и надевают старую поношенную обувь, чтобы нигде не тёрло и было удобно. Это – приметы от того же сглаза, или неудачи задуманного.
17
Умная и любознательная княжна Нерыцкая цитирует давно покойного митрополита Даниила, который пенял в том Великому князю Василию III письменно за его молодцов, т.е. ближних, по мнению митрополита, выглядевших непристойно. А князь Василий, как видно, ценил эстетику эффектно одетых, ухоженных, украшенных молодых людей, и Иоанн унаследовал от него эту черту. Княжна могла узнать об этом из дворцовых слухов, передававшихся так или иначе от приближённых своим домашним. Претензиями к излишней увлечённости привлекательной внешностью княжеских молодцев митрополит завуалированно пенял великому князю за то, что даёт повод к толкам о неподобающих забавах молодёжи при дворе. Позднее, в 1551 году, по мотивам всё той же проблемы, митрополит Макарий писал молодому государю Иоанну Васильевичу о случаях неподобающего поведения войсковой молодёжи в Свияжске, где стояли русские войска, готовившиеся штурмовать Казань (митрополиту донесли исправно). Но царь Иоанн пропускал это мимо ушей, также как и князь Василий, и смотрел на такие вещи сквозь пальцы, очевидно, мотивируя это тем, что главное в походе и битве – это доблесть воинов и победа в итоге, а чем кто себе настрой поднимает – не столь важно, если не на людях грешат. После митрополит Афанасий даже требовал «безбородых в войско не пущать», в Полоцкий поход, в частности, но это уж совсем смешно было – а кого тогда пущать. Половина новиков были юнцами, безбородыми по летам. А многие брились из гигиенических соображений, чтоб вшей не плодить, а вовсе не из-за «велемудрствования в красоте телесной». Государь эту претензию своего очередного митрополита счёл необоснованной, глупостью, и проигнорировал, конечно.
18
Снизка жемчужная – то есть, нанизанный в нитку – в виде бус. Носить самый дорогой жемчуг таким образом, не в форме вышивки-украшения одежды или головного убора, а бусами, в несколько рядов, длинными особенно, считалось признаком особой роскоши
19
Обычаи гостеприимства (и этикет гостя) были очень строгими на Руси, и входить в мирный дом с мирными намерениями, особенно – к будущим родственникам, при тяжёлом оружии было неприлично. Поэтому при входе мужчины отстёгивали сабли и мечи и отдавали слугам или оставляли в специальной подставке, как сейчас – зонты и шляпы, а выходя, вновь прикрепляли их к поясному ремню. Кинжалы оставались за кушаками, это был неотъемлемый атрибут одежды воина, как у женщины – платочек вышитый в рукаве (она же "ширинка"). Ширинками назывались нарядные, богато вышитые полотна ткани, от самых маленьких и лёгких (т.н. носовые платочки, которые были необходимым атрибутом наряда женщин среднего и высшего сословия при выходе на люди, салфетки настольные и проч.) до полотенец, столовых и декоративных, и трёхаршинных (и более) в длину ритуальных, обязательных при проведении обрядов свадьбы, крестин и похорон, и разных величальных мероприятий. Каждый элемент вышивки обрядовых изделий имел традиционный сакральный символический смысл
20
Ритуал боярской и княжеской свадьбы отличался от церемониальных предписаний других сословий тем, что длился долго и со множеством условностей, которые не соблюдались в простонародье и купечестве (по причине занятости, поле и работа не ждёт! – сосватались – так смотрим товар лицом, то есть буквально на смотрины невесты приезжал жених, если брали незнакомую девушку. Бывало, что жених лично присутствовал и при сватовстве. Но в княжеском обиходе это было не принято, и даже если жених сто раз видел невесту до сватовства, и они были знакомы, ему не полагалось быть на смотринах).
21
27 сентября – церковный праздник, Воздвижение Честного и Животворящего Креста
22
Вторые осенины – народное исконное название праздника, который традиционно отмечался 21 сентября. С одной стороны, этот день долгожданен завершением полевых работ, сбора урожая, с другой – лучшим временем для празднования свадеб. Более распространенное название этого праздника – Рождество Богородицы (нетрудно догадаться, что церковный календарь присваивал наиболее значимым евангельским событиям даты, накладывающиеся на дохристианские, т.н. «языческие» народные праздники, намеренно, дабы оттянуть на себя, официальную религию, большую часть внимания и подношений от прихожан, затмить как бы вторую строну каждой такой даты в представлениях людей. Делалось это очень разумно, с учётом особенностей русского нрава, чтобы на фоне церковного торжества было неприлично и порицаемо отмечать единовременно «неканонические» события, связанные с сезонными переменами и сельским хозяйством. Потому осеннее равноденствие и Пресвятая Богородица сливаются как бы воедино в ореоле праздничного сакрального состояния простых людей. Она не только заступница для всех, но главная помощница женщин и матерей, поэтому браки, заключенные в этот день, считаются самыми надёжными. Впрочем, что ни возьми, а народ всё равно, поставив свои свечки и помолившись как следует Заступнице, идёт и обращается к великой матери всех матерей, в том числе и Пресвятой Девы Марии – Природе.



