Дорожное эхо
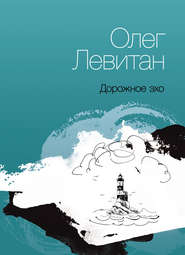 Полная версия
Полная версияДорожное эхо
«Худенькая – локти да ключицы…»
Худенькая – локти да ключицы…Надо же такому приключиться:двое тертых временем мужчин —за девчонкой-пионервожатой! —вьются день десятый и двадцатый,безо всяких видимых причин…Ей еще семнадцать, нам за тридцать…А она нас дразнит, веселится —эдак поглядит через плечо:где вы тут? И нам не разминуться,и в ответ лица ее коснуться —боязно глазам и горячо…Ладно б я, со мной всегда такое:я влюбляюсь вмиг – и нет покоя!Но очнусь и понимаю – блажь…Ну а он, свирепый сын Кавказа!Как вздыхал он, этот кареглазый!Ах, да разве ж это передашь…Вот какой сюжет несовременный…А когда уехала со сменой —нам рукой махнув издалека —мы с ним сели рядом, закурили,нас, как перед Богом, примирили,уравняли – нежность и тоска……Может, повзрослеет к ледоставу,вспомнит свою летнюю забаву —как бродили следом два орла…Спросит у ночного снегопада:«Что им надо?..»Ничего не надо.Ничего. Спасибо, что была.1980Застолье
В уютный летний вечерокони забрались в уголок —и распечатали бутылку…И о стакан стаканом – звяк! —и по кусочку кое-какпоймали иваси на вилку.Тогда сказал один из них:«Вот мы сидим, и вечер тих, —так он сказал, уже согретый, —и рядом за стеной не спят,и со стаканами сидят —за этой вот стеной и этой!И там, – он сделал резкий взмах, —во всех бараках и домахсидят – со светом и без света!Такой же закусон едят,такой же анекдот твердят —сидят, а праздника и нету!..Сидит вся область в тишине!А поглядеть – по всей странесидят, от севера до юга!И хоть давно уснул восток,но собирает шепоток —в такой же уголок у Буга!..»Так он сказал на той гульбе,и стало всем не по себеот необъятной этой доли,от подступающей тоски —она ударила в виски…«Ах, наливай скорее, что ли!..»1979«Скворец поет запоем – и когда!..»
Скворец поет запоем – и когда!Уже багровы на прощанье клены,и тяжелы от капель провода,и холода построены в колонны…О чем тут петь? В такие времена —в охапку шапку и айда южнее!Иль по сердцу тебе моя странаи тяга к постоянству все сильнее?..Картавый мой!Сомнения забудь —лети, лети, ищи судьбу иную!Не беспокойся, я уж как-нибудьздесь за обоих нас перезимую…Перезимую, спрятавшись в пальто,переживу, обувшись потеплее, —да, без твоих неистовств, но затосо снегирем в заснеженной аллее!Лети, лети – твой жаркий свист в ценетам, где сирокко веют и мистрали!..А мне бы оглядеться в тишине,успеть до снега разглядеть деталипрекрасного —его каркас, чертеж,все, что листвою летом заслонялосьи щебетом…Иначе не поймешь,что в нем такого есть, какая малость —зацепка – составляет существотого, что чувством Родины зовется!..Быть может, можно жить и без него…Но это и скворцам не удается…1979Взгляд

«В хороводе и на карусели…»
В хороводе и на карусели —хорошо, особенно сначала.Вроде жизни крутится веселье —лишь бы никого не укачало.Знаю я спецов по этой части,что скатились, круга не проехав,в головокруженье от несчастий,в головокруженье от успехов…Вот и выход путают со входом,вот и жизнь с усмешкой называюткаруселью или хороводом —и не любят, и другой не знают.1981Зимняя баллада
На одной стороне дороги – сосна.На другой стороне дороги – фонарь.На столбе и ветвях – густошерстая изморось сна,не спеша, подрастает весь день, потому что январь…Целый день они спят, а дорога скрипит и скользит —под ногами, колесами, лыжами – за поворот,за поселок, за поле и лес, за край света бежит…Вот и сказке конец, вот и ночь по дороге бредет.Но когда, чертыхнувшись и брякнув в потемках ведром,вышел дядя из будки и ржавый рубильник врубил —разгорелся фонарь и лучистым своим серебромстал сосну согревать, потому что влюблен в нее был.Он еще в ноябре в первом снеге ее разглядел —и с тех пор каждый вечер, очнувшись, распугивал тьму,и все шею тянул, все к ветвям прикоснуться хотел…И она, вся искрясь, над дорогой тянулась к нему.О, нелепое чудо, о, радость свиданья в ночи!Свою жизнь оглядев, я пред ними качну головой…Я тебя разлюбил, ты забыла меня, и ключиот недолгого счастья – под снегом, листвой и травой…И опять рассветет. И опять – только изморось снана столбе и ветвях. И дорога уносится вдаль…На одной стороне дороги – сосна.На другой стороне дороги – фонарь.1981Свитер
В дому, где за полночь в окнене гаснет свет у изголовья,красивый свитер вяжут мне,и каждая петля – с любовью.Я вижу – как не увидать? —зачем я в этом доме нужен:чтоб теплым свитером объять,и приручить, и сделать мужемсвоим – и холя, и любя,и пестуя… А свитер ярок!Но я же знаю сам себя —о да, я тот еще подарок!Ведь вот же счастье дураку!Но, видя ловкую работу,в себе смущенье и тоскуя ощущаю отчего-то.И тянет в темень поездов.И тягостно от хладнокровья.А свитер мне уже готов,и каждая петля – с любовью…1984Чайка
Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился, Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую…
Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»Рыжий траулер к стенке приник после плавания.Чайки ловят отбросы и жрут на лету.Запах угля крадется из Угольной гавани,словно кошка, на запахи в Рыбном порту.Кран портальный скрипит. Небо ватой спеленато.Чьи там крылья сверкают опять надо мной?Я живу на земле, не смущай меня, Джонатан,приглашеньем к немыслимой жизни иной!Я и все мы – ручные, верней, прирученные —обреченные помнить, что крылья слабы!Все мы здесь, на земле, на ошибках ученые,все закончили тусклую школу судьбы!Мы – в земном пилотаже умельцы и практики!Гей, друзья мои, где вы? Зови, не зови —разлетелись друзья мои, словно галактики,растеряли по перышку крылья свои…Вот и машем рукой – это, мол, от лукавого!…Чайки ловят отбросы и жрут на лету.Запах угля крадется из Угольной гавани,словно кошка, на запахи в Рыбном порту.И все дальше, все выше над берегом глинистым —все несбыточней – зная о том наперед,реет чайка по имени Джонатан Ливингстон,в одиночку раскручивая полет…1981Сны
Спит мальчуган с ладонью под щекой.В пучине вод, в отсеке спит подводник.Спит продавец, и вздох во сне такой,что сам вздохнешь…Что снится им сегодня?И психоаналитик видит сны —и сам себе бормочет: «Мило, мило…»Спит населенье города, страны.Раздумьями писателя сморило…Треть жизни, проводимая во сне,заполненная перевоплощеньем,полетами, тоской о лучшем дне,и жалостью, и счастьем, и мученьем…Других две трети, вон они – вокруг!А эта вся внутри, вся в человеке!И он весь в ней: сам враг себе, сам друг —пока однажды не уснет навеки…Сам режиссер, сам зритель, сам герой,сам говорит чужими голосами…А что во сне не ладится порой,так и вокруг всё так – смотрите сами!1982«О, если б слякоть, или дождь…»
О, если б слякоть, или дождь,иль хоть какое невеселье!Нет, жизнь – прекрасна, день – хорош.Тут – свадьба, рядом – новоселье.Стучат папаши в домино,вполне довольные собою.По телевизорам киноидет с любовью и стрельбою.За тополями слышен смех.Фонтан журчит – такая прелесть!Гуляют пары, и на всех —сплошные «Адидас» и «Левис»…Куда же, закусив губу,так смотрит женщина вот эта?И прядь волос, скользнув по лбу,не в силах спрятать слез от света.Она глотает седуксен.И снова руки опустила.Как будто счастье дали всем,а ей – последней – не хватило.– Чем вам помочь? – спрошу, спеша.– Нет, нет, не стоит беспокойства!…И зябко ежится душаот мирового неустройства…1982Теплые дни в октябре
Не спешит удача к человеку —жизнь полна рутины и тоски…Посреди судьбы на склоне векаон устало трогает очки.То любовь забытая приснится —взгляд ее, смешная челка та…То чужих пейзажей вереница —побывать в Италии мечта…Но семья и прочие препоны —неизбывно держат на черте.А на даче, в Вырице зеленой,хороши пейзажи, да не те…А года уже не молодые.А листва скребется по земле.Вот уж и виски полуседые —заморозки были в сентябре.Вот уж и серебряное млекопотекло с небес, еще чуть-чуть —и погасят вьюги человека…А мечта с любовью – как-нибудь.Но в четверг, с самой природой споря,вслед размытым рыжим облакам —терпкий воздух Средиземноморьяпотянулся к невским берегам!Потянулся – медленный и жаркий,каждою молекулой своейпомнящий собор Святого Марка,церковь Санта-Кроче, Колизей!Словно кто-то взгляда с нас не сводити, когда невмочь, он тут как тут,и в садах с ума деревья сводит…Вон они – проснулись и цветут.Ах, в такую пору все бывает!И любовь, восстав из забытья,его имя в трубке называет,тихо шепчет:– Здравствуй, это я…1981Фонтан
О, дивных струй полет и бег —столь расточительный и странный!Кто он – тот добрый человек,забывший выключить фонтаны?Спит город. Ночь, свершив труды,сползает к западу, но действовеселой брызжущей воды —не стихло близ Адмиралтейства!И там – на Невском, где ходокнайдет его легко и скоро —хрустальный бодрствует цветокв тени Казанского собора!Он шепчет:«Добрый человекчаек индийский пьет в дежуркеиль спит с устатку в головена вдвое сложенной тужурке.И пусть! И пусть!Пока судьбойотпущена возможность пенья,не важно, что перед тобой —забвенье или преклоненье!Но очень важно в этот часне знать тоски, забыть интриги,пока из космоса на насвзирает башня Дома книги!Пока в ладонях колоннадфонтанной песенке раздолье,пока, заслушавшись, стоятКутузов и Барклай де Толли!..»1982Архимед
Живем во временах, которых мы достойны.Но в давние века заглядывает грусть.А там – опять чадят Пунические войныи римляне галдят в предместьях Сиракуз.У нас – свое кино, у нас – получка в среду,у нас своих забот – хоть пруд пруди, хоть пруд…Но что́ же там открыть не дали Архимеду,призвав к постройке рвов, зеркал и катапульт?И наши времена чреваты смрадом дымным —вся жизнь на волоске, все тоньше эта нить!Но Архимеда жаль, и греков жаль, и римлян…И жаль, что ничего нельзя предотвратить.Нельзя, уже на штурм пошли Марцелл и Клавдий!Нельзя, хоть зеркала спалили римский флот!Ведь самый светлый ум – ничто, сказать по правде,в сравнении с возней у городских ворот…А будь исход иным иль не таким бесславным —кто знает, может, мы имели б меньше бед!Не зря ж в предсмертный миг —вся боль, весь страх о главном, —«Не тронь моих кругов!» – воскликнул Архимед.1981«Я вспомнил номер автомата…»
Я вспомнил номер автоматаКалашникова, мне опятьприснился он, мой тускловатый,и цифры – 2205…И то армейское уменье —слегка дыханье затаитьи движущийся бок мишенис прицельной планкой совместить…К чему оно мне, если в мире,где на весах добро и зло,с лихвою ядерные гиридля счетов время завело?Кого спасет мое уменьеза дверью дома моего —на том вселенском помраченьев последний час и миг его?Но форму спуска и прикладаи над рожком цевья обхват —в тени рассеянного взгляданевольно руки повторят.Поскольку жизни невиновностьпонятна сердцу и глазам,и защищать ее готовность —инстинкт, природой данный нам…1984* * *«Девятнадцатый век – он как будто за тонкой стеной!..»
Девятнадцатый век – он как будто за тонкой стеной!Динь-динь-динь – колокольчик в Тригорское, в Болдино,в Линцы…Гром сражений. Балы. Размышленья о жизни иной…Декабристы, поэты, студенты, купцы, разночинцы…Строчки писем, стихи, протоколы в архиве сыскном —в них страдают и любят, печалятся и острословят…На дуэли спешат и сидят в карантине чумном,ждут вестей из Хивы и гремучие смеси готовят…Им самим все музыка минувшего века слышна —бунты, казни, реформы… Мыслители и лиходеи…Через сотню-то лет – так легко понимать времена!Современником быть, на себе выносить – потруднее.Но я видел во сне двадцать первого века закат!Всё узнали про нас там, все шифры прочли и чернила.Жаль услышать нельзя, что они там про нас говорят —только б все это было, о, только бы все это было…1984Ломбард
По дому, где весь день людской потоктечет вдоль касс и деревянных стоек —прошлась метла эпох и перестроек…Лишь сводчатый беленый потолокна кольца, мех и прочее доброглядит – и ничего не понимает,и времена иные вспоминает —иной хрусталь, иное серебро…И вечерами, лишь затихнет шум,дом занят сном – старинным, драгоценным,где тени заговорщиков по стенам,где спорит с чувством сердце, с сердцем ум…– Не опоздать бы, – голос за столом.– Где манифест?– На полке в кабинете.– Ах, господа, сенаторы – не дети.– Ах, господа, как славно мы умрем!И чей-то вздох. В сомненьях есть резон.Все выяснится утром у Сената,но мысль о пораженье жутковата…А мрак над Мойкой снегом занесен.– Ты как, Мишель?– А я как все, Жанно!– Считаешь, что получится?– Не знаю…Ночь за окном глухая, ледяная.И в ней лицо стеклом отражено.А за спиной:– Страшитесь вы, да-да!То мало войск, то мало офицеров,но я ручаюсь за лейб-гренадеров,не погубите же их, господа!И кончен диспут:– С Богом, по местам!Расходятся. И кто-то, заикаясь,– П-послушай, – говорит, с крыльца спускаясьза впереди идущим по пятам:– А как т-тебе х-хозяина жена?– Наташа прелесть… – и к нему с вопросом:– Так ты куда?– Я в эк-кипаж, к м-матросам!– Напомни, артиллерия нужна…Полозьев скрип. Негромкий стук копыт.И затихает невская столица…Светает. Перевернута страница.К дверям ломбарда очередь стоит.1985Баллада о двух поэтах
Поэт Пастернак и поэт Мандельштам —при всех их различьях – ценили друг друга.То были тридцатые годы, а там,в то время – и это большая заслуга…Как в точности вышло, нам трудно сказать,но точно, что встретились два стихотворца.И стих, попросив Пастернака: – Присядь, —прочел Мандельштам про кремлевского горца.И меркнул от слов электрический свет.И эхо бежало от каждого звука —теснясь, как озноб от прочтенных газет,как страх повсеместный полночного стука…И встал Пастернак, головой покачал,от бледности ставший смуглее и выше:– Запомни, ты этого мне не читал,и я этих строчек, запомни, не слышал!И сел Мандельштам у окна, где во мглеметались шершавые крылья метели,и дырочку вдруг продышал на стекле,чтоб мы эту сцену в нее подглядели.Спросил:– Что же делать, ведь знаем, ведь ждем?Сказал Пастернак:– Оставаться поэтом…И в той телефонной беседе с вождемон помнил о встрече и медлил с ответом.Он знал, что был должен сказать, – и не мог.Он верил, что жизнь – это высшее благо,и медлил, как Гамлет, оттягивал срок —молчал, чтоб ответить устами Живаго…А вождь ухмыльнулся, когда он затих:«Боится, – подумал, – не хочется в яму,а мы тут не спи и решай все за них!» —и жизнь на три года продлил Мандельштаму…О, если б я сам эту темень сгущал!Лишь нынче наш век недомолвок лишился.И вышло, что прав был и тот, кто смолчал,И тот, кто на дерзкую правду решился…1985Хвостов
Когда творцы стихотворенийв трудах не ведают сомнений,нам анекдот из давних днейна ум приходит…В душной спальнойгенералиссимус опальный —прощался с жизнию своей.Уже священника призвали,и граф Хвостов в соседней залеторчал, как перст, в толпе родни —с платком в руке, шепча:«Доколе!Как жаль, что все мы в божьей воле!Бессмертны гении одни…»И думал, как напишет одуи явит русскому народусей скорбный день со всех сторон,пока завистники, зоилына эпиграммы тратят силы…«И буду – гений!» – думал он.И мысль уже текла стихами:«Тоски покрытый облаками,я о тебе, Герой…» – но тут,на парной рифме «горний-молний»,пришел слуга и тихо молвил:«Их светлость вас к себе зовут…»Среди подушек в зыбком свете —лежал кумир и благодетель.Свеча плыла. Воск пальцы жег.«Прощай, дружок! Смирись с судьбою, —сказал Суворов, – Бог с тобою,и… не пиши стишков, дружок!»У графа свет затмился разом —и, потрясен таким наказом,Хвостов поднялся, весь в слезах,и вышел вон без разговоров…Его спросили: «Что Суворов?»Он всхлипнул: «Бредит, бредит, ах…»Был граф как человек – не вредный.Но если б только знал он, бедный,живя на невском берегу,что есть в Москве птенец курчавый,что в паре с нянею лукавойлепечет первые «агу»…Вот подрастет, крыла расправити графа строчками прославит —и так и этак – то-то, брат!Желал бессмертия? Готово!…Но разве слушают Хвостовы,когда им дело говорят…1986Дождь на Литейном проспекте
Ирина проснулась и встала. Зазвякала штора,являя рассветный, раскисший от влаги Литейный —дом в памятных досках напротив, огни светофораи взгляд человека из окон квартиры музейной.Он был нездоров (кутал горло), он был старомоден,похож на кого-то, с унылой бородкою клином…В таком, так сказать, петербургском (вот именно) роде…«Наверно, сотрудник музея», – решила Ирина.И вдруг она вновь ощутила сердечную жалость —желанье помочь человеку, которому худо.Ей ночью приснилась тоска и, приснившись, осталась.Теперь она знала – о чем та тоска и откуда.Сквозь дождик глухой, моросящий давно и уныло,хоть в форточку крикни, да там не услышат ни звука,и это мучением было, на сердце давило…«О боже, – Ирина подумала, – что там за мука?»«Действительно, мука, – вздохнул Николай Алексеич, —долги, корректура, цензура с охранкой в комплоте…И мыслей тщета – и ничем их не сбить, не рассеять,печальных, как барышня эта в окошке напротив…Небось, нигилистка, – подумал, – а время лихое,вот мы в нем обвыклись, а ей комом в горле, быть может…»Он даже кивнул ей, махнул ей легонько рукою.Ирина заметила это, кивнув ему тоже…А дождик все лил – незатейлив, и мелок, и робок,сбивался, частил, забывал, что́ с которого края, —два времени разных приблизив, поставив бок о бок…Лишь в городе нашем бывает погода такая!На кухне соседи вели коммунальную свару.Ирина очнулась, на службу скорей побежала.И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару…А в доме напротив – Панаева в дверь постучала.Вскричала: «Ах, Коля, вон там – у подъезда – крестьяне!»Потом Николай Алексеич, увлекшись сюжетом,брался за перо, и бросал, и лежал на диване…Ирина под вечер со мной говорила об этом.И все, что в тот день – тут и там – не в пример суесловьюрассказано было, а также написано было —подсказано жалостью было, а жалость – любовью,той самой, что всех нас однажды в людей превратила.1985«Воробей-разбойник засвистал…»
Воробей-разбойник засвисталу плетня, в немыслимой браваде —в теплые заморские местасоловьев-разбойников спровадив.Отыскав в пожухлой лебедесемечками полную макушку —он грозил сородичей орде,он округу свистом брал на пушку.Перышки взъерошил на груди:«Чур, мое! Чур, нынче я пирую!Эй, чувырло, чур, не походи!Я тебе, чик-чик, поозорую!»Так шумел разбойник у плетня,но пора пугливых миновала —через миг там вся его родня,вся округа пела и клевала…1986Комарово
Дачный дом, покинутый людьми.Все, как есть, исчезли в воскресенье —с кошками, лукошками, детьми,с банками компотов и варенья…Дом еще не верит и беречьсам себя старается от пыли.В нем еще поленья помнит печь.Стены, полки, кресла не остыли.Но скользит по комнатам пустымпризрак запустенья и развала…И о чем мы, право, говорим —с нами, что ли, так же не бывало?Шелестит впотьмах какой-то сор.Вдоль забора – голоса прохожих.Дом глядит с надеждой сквозь забор —даже мало-мальски нет похожих.Только сумрак, только дождь и грязь,да под ветром пляшет, как живая —перед домом, намертво вцепясьв бечеву, – прищепка бельевая…1986«Вот женщина. Вот комната ее…»
Вот женщина. Вот комната ее.Мужчина здесь – диковинное зрелище.С таким стараньем прибрано жилье —на кресла край присев, не пошевелишься.Беседуешь, салфетку теребя,и чувствуешь себя немного скованно,хоть виды здесь имеют на тебяи смотрят – вскользь, но заинтересованно.Вы пьете чай, и, значит, ты не пьян,и, значит, блажь в башку тебе не кинется.Но если к ней присядешь на диван —наверное, она не отодвинется.Привычка к одиночеству. Тоска.Согреешь ли, утешишь ли, намного ли?На вечер, ночь? А возраст – к сорока…И помнит всех, кто так же руку трогали.И глупостями, брось, она сыта…И жизнью всей, уйди, она ученая.И неспроста – такая чистота.И тяга к ней – почти ожесточенная…1984Портрет художника
Е. Барскому
Краснощек мой приятель, осанист и рыжебород…Причеши да одень его в бархат, и в гости – к фламандцам!В золоченые рамы, где праздник и страж у ворот,прислонясь к алебарде, завидует яствам и танцам…Но приятель и сам скипидаром и краской пропах!Он стоит у холста – и сопит, и мычит без зазренья.И камчатский пейзаж – первобытный и злой – нараспахиз-под кисти растет, разверзаясь на три измеренья…Вот оно – вдохновенье! О, лишь не спугните теперь!Тихий ангел – жена разложила закуску по блюдцам.Кто-то в дверь постучался, гостями распахнута дверь!Он:– Я занят! – рычит, и под нос: – Ничего, перебьются…Если б я был художник, я б сделал, наверно, портрет,где приятель сидит у картины со стопкой портвейна,а другою рукой обнимает жену… впрочем, нет —это было уже у голландца, Рембрандта ван Рейна…Ладно, пусть остается рука на плече у жены,пусть он машет другой, вдохновенно бурча о работе,я гляжу на нее – даже кисть отложив, сведеныее пальцы все той же привычной и цепкой щепотью.Разойдемся во мненьях, стаканом о стопку звеня —под камчатским пейзажем, где катышки пепла на пемзе…Как он спорит, собака! И все же он любит меня,я не знаю, за что – но по сути плачу ему тем же.1985«Третье лето, махнувши рукою на юг…»
Третье лето, махнувши рукою на юг,на Камчатку с мольбертом летает мой другнад просторной страною,и рисует пейзажи, и писем не шлет.Я бы тоже слетал, только мне не везет —то одно, то другое…А недавно картину он мне подарил,словно дверь в недоступную даль отворил —в край державы и света.Был суров и тревожен камчатский пейзаж:склон вулкана в тумане и солнца виражярко-рыжего цвета…Я прошел в эту дверь уж не ведаю как,заскрипел под ногой вулканический шлак,осыпаясь по склону,и белесое облако, свет заслоня,в свое влажное чрево втянуло меня,будто рыба Иону…А когда развиднелось опять предо мной, —вся страна необъятно легла за спинойи за кратером диким,ощутив адской серы тоску и дурман,я увидел, как берег грызет океанименуемый – Тихим…А потом я представил и тот Новый Свет,где включают корейскому «Боингу» вслед —все радары Аляски,и все правят в камчатское небо маршрут,и пари заключают: собьют – не собьют, —вплоть до самой развязки!И тогда с края света я – Свету тому! —прокричал, что есть силы, в гремучую тьму,жаль, услышат едва ли:– Не прошу, чтоб вы хлопали нас по плечу,лезли с дружбой, хвалили, я только хочу,чтоб вы нас понимали!..1985«В электричках утром теснотища…»
В электричках утром теснотища —стой, не охай, вплоть до Ленинграда…Сотня выйдет в Колпине, и тыщаснова влезет – всем куда-то надо!Набежит, с перрона в тамбур хлынув —мокрый вал беретов, шляп, косынок!И в лицо – охапку георгинов,в белой марле едущих на рынок…И опять мелькает мгла сырая.Долго длится время поездное…Где же ты, попутчица былая?Возвратись, встань рядышком со мною!Возвратись – волненьем отозваться,как тогда, в студенческие годы.Нам бы на природу любоваться —но так тесно, что не до природы…Дни летели, зыбкий снег роилсяследом до Московского вокзала…Я сказал ей: «Я в тебя влюбился…»Но не вспомнить – что она сказала.Не услышать, как в кино без звука.Перегон. И снова остановка.Как ее название – Разлука?– Нет, – ответят люди, – Сортировка…Георгины смотрят на названья —им-то, им-то, бедным, что за дело?Тридцать километров расстоянья —и вокзал!Полжизни пролетело…1983«Художник, штурман, инженер…»
Художник, штурман, инженер,писатель, милиционериль просто человек красивыйи добрый – Бог весть почему…Вот эти рядом, а к тому —тянуться через всю Россию!И это всё мои друзья —те, без которых мне нельзяи дня представить, холодея.Мне взгляды их и голоса —как для пернатых небеса,как твердь земная для Антея!Меж тем летит за годом год.Махну рукой, коль повезетпорой вечерней или рассветной —в трамвае, в давке, кое-как:– Ты где?– Да там….– И как?– Да так…И на прощанье взгляд приветный.Всяк выбрал ношу по себе.Почти у всех и по семье —и тянут, тянут на пределе!А кто-то даже, посмотри,уже развелся раза три…Да и о чем я, в самом деле!А жизнь спешит во весь опор —ухабы, рытвины, сыр-бор! —когда ж тут оглянуться, право?Но оглянись, и меж людьмиони – друзья! А отними —лишь одиночества отрава…1987* * *«Распрощавшись с вокзальной Москвой…»
В. Ведякину
Распрощавшись с вокзальной Москвойи постель приготовив на полке,я почувствовал, тронув рукой:заполняется сердце тоскойи щемит от незримой иголки…Пару дней у друзей прогостив,жизнь чужую к своей приближая,я вдруг понял, плафон погасив,под негромкий колесный мотив —никакая она не чужая…И, Калинин ночной миновав,все не мог от нее отстраниться,и не в силах был встречный составзаслонить, пролетая стремглав —москвичей моих милые лица…Я рукой проводил по глазам,засыпал и опять, просыпаясь —все завидовал темным лесам,убегавшим к столице, и самвсе оглядывался, улыбаясь…И всю ночь по осенней стране —к Волочку, Бологому, Любани —так и ехал на нежной волне,имена дорогие во снеповторяя одними губами…1985


