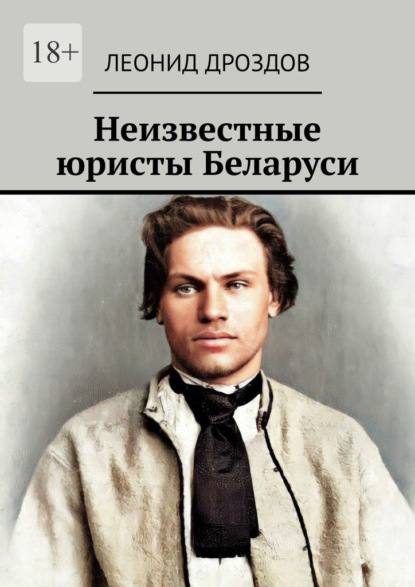
Полная версия:
Неизвестные юристы Беларуси
24-летний служащий Минской католической консистории проявил недюжинную фантазию при составлении своей родословной. Не мудрствуя лукаво, он не только довел свою родословную до 1124 года, т.е. углубил ее сразу на 700 лет, но и с целью придать весомость своей фамилии сделал ее двойной.
В этом месте мы должны объявить полное имя нашего героя, ибо скрывать тайну далее становится невозможным.
Итак, герой повествования – Викентий-Якуб Марцинкевич. Да-да, это тот самый знаменитый автор «Пинской шляхты» и многих других произведений, которого все мы хорошо знаем со школьной скамьи как Винцента Дунина-Марцинкевича.
Откуда взялась первая часть Дунин? Этого объяснить сейчас не сможет никто. Просто именно так решил в свое время Винцент-Якуб. Мы можем только предположить, что именно подтолкнуло нашего героя к этой мысли: одним из его покровителей был Станислав Богуш-Сестранцевич, крестил его Игнат-Якуб Далива-Садковский. Как видно, не только двойные имена, но и двойные фамилии у белорусской шляхты во все времена были в большой моде. И наш герой решил не отставать от них. Самое удивительное, но его прошение Минское дворянское собрание удовлетворило.
Уже в конце 1832 года Минское дворянское собрание выдало ему требуемый патент о благородном происхождении рода Дунин-Марцинкевичей герба Лебедь. Таким образом, с легкой руки Винцента Марцинкевича в 1832 году на 25-м году жизни он стал Дуниным-Марцинкевичем, а до этой поры все его родственники и предки именовались только Марцинкевичами.
Фальсификатор
Этот успех явно вскружил голову молодому служащему Минского уездного межевого суда. Однако в этом он был не одинок. Его старшие товарищи из Минского дворянского собрания прославились на всю империю сфальсифицированными родословными. К этому времени они успели хорошо изучить изданные к тому периоду гербовники и знали, каким образом документально доказать то, чего никогда не было на самом деле. Не думаю, что по поводу своей не совсем официальной деятельности они испытывали какие-либо угрызения совести. Российские власти придумали способ не увеличивать численность привилегированного класса, не пускать туда выходцев из ВКЛ. Белорусы предприняли ответные меры. Они любой ценой защищали своих. Быть дворянином было почетно, престижно и выгодно экономически. Россиянам нужны были старинные бумаги, белорусы ответили – будут вам бумаги, с подписями и печатями!
Так, Винцент Дунин-Марцинкевич вывел свой род от датчанина Петра Дунина, который якобы прибыл в Польшу в 1124 году и за свою жизнь построил там 30 монастырей и 77 костелов! Воображение нашего героя рисовало собственных предков не только знаменитыми и богатыми, но и предприимчивыми и целеустремленными, едва ли не святыми. Только святой человек мог себе позволить потратить несметные богатства на богоугодные дела.
Отставать от своего воображаемого предка Дунин-Марцинкевич никак не хотел. Подрабатывая на изготовлении фальшивых родословных (лично я в этом не сомневаюсь), он сумел всеми правдами или неправдами скопить кое-какой капитал. Ведь за такие услуги платили звонкой монетой.
Когда его арестовывали в первый раз по делу о поддельных грамотах, при нем оказалось наличных денег 40 золотых монет – полуимпериалов (достоинством 5 руб.), 41 золотой червонец (достоинством 10 руб.), разная мелочь серебром на сумму 2 руб. 62,5 коп. и 3 коп. медью. Для тех, кто не в теме, поясним, что золотой червонец весил 8,6 г и изготавливался из золота 900-й пробы. Простой подсчет показывает, что в момент ареста при нем только монетами было больше, чем полкило золота. Сможет ли каждый из нас в наше время похвастать таким сокровищем?
Успешные люди у многих вызывают зависть, об этом свидетельствует современник-недоброжелатель. Цитата: «Марцинкевич был под судом или следствием по делу Чапковского за подделку документов… Марцинкевич очень ловко объяснялся и в одну минуту показывал все почерки, какие находятся в книгах, с чего можно заключить, что ему довольно знакомы книги Минского уездного суда… Марцинкевич, как всем известно, по прежнему своему состоянию бедный, не получил наследства никакого ни по своих, ни по своей жены родителях, несколько лет служил в консистории без жалования, а по исключению оттуда завел дело не очень похвальное в его сторону с епископом Липским и после в доказываниях своих отрекся, и ныне нигде не служит в штате и ни от кого не имеет доверенностей (на представление интересов), кроме одной Любанской… Однако в сих летах приобрел в г. Минске два дома, стоящие около 1000 червонцев, в 1840 году за 3500 рублей приобрел от Селявы фольварк Люцинок, и кроме того, живет в городе пышно. Удерживает лошадей, ездит коляскою, всякий раз бывает в театре, справляет вечера и квартеты. Чем он занимается? И откуда столько имеет денег? Неизвестно».
Впрочем, другие авторы утверждают, что имение Люцинка (около Ивенца), в котором он провел большую часть своей сознательной жизни, Винцент Дунин-Марцинкевич приобрел у минского межевого судьи Алоизия Селявы. Перед покупкой он якобы взял крупные денежные займы.
Обвинения против Винцента Дунина-Мартинкевича в подделывании королевских грамот и других документов выдвигались неоднократно, но документально доказать это не смог никто. Судя по всему, он умело прятал концы в воду.
В деле обвинений отметился в том числе слуга Марцинкевича – Иосиф Душкевич. В своем доносе он указал, что помещик Марцинкевич занимается составлением подложных документов на дворянское происхождение, для чего имеет и печать, спрятанную под полом. Однако расследованием, произведенным властями, вина Дунина-Марцинкевича доказана не была. За лживый донос слугу наказали плетьми.
При этом весьма интересен ответ Марцинкевича на вопрос чиновника особых поручений при минском гражданском губернаторе: «Чем вы занимаетесь, постоянно проживая в городе, ежели имеете хождение по чьим-либо делам, то по каким именно, по доверенностям или без оных?» Отвечая на него, наш герой указал: «Имея доверие от разных лиц, занимаюсь я хождением по делам и ныне по доверенностям имею дела Любанской, Шклянника, Вышамирской, Годлевской. Тоже иногда занимаюсь переводами, ибо был переводчиком в консистории».
Как видим, с юридической практикой наш герой не расставался никогда. И, судя по всему, клиентов у него было предостаточно. А это говорит об определенном авторитете в соответствующих кругах. Иными словами, он весьма успешно вел чужие дела.
Не единожды довелось Винценту Дунину-Марцинкевичу быть и узником Минского Пищаловского замка (сейчас СИЗО №1 на ул. Володарского). Его второй арест был связан с обвинениями в антицарской деятельности. В частности, ему ставили в вину написание и распространение поэмы «Гутарка старога деда». И если в первый раз заключение длилось всего неделю, то второй раз ему пришлось отсидеть 8 месяцев. Однако объем этой статьи не позволяет подробно рассказать обо всех приключениях нашего героя, которые достойны быть увековечены не только в научной, но и в художественной литературе.
Комедиограф
Как мы уже говорили, в 1840 году наш герой оставил службу, приобрел фольварк Люцинка около Ивенца (ныне Воложинский район). Последний стал для него местом постоянного жительства до конца дней. Однако много времени проводил писатель и в Минске.
Значительную часть жизни он посвятил литературе, поэзии и драматургии. Среди его работ, в частности, первый перевод на белорусский язык знаменитой поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Первая книга этого перевода сначала была допущена цензурой к печати, а затем практически весь тираж был уничтожен. Естественно, что автор, который издавал книгу за свой счет, понес значительные убытки. Он предпринял отчаянную попытку отстоять свое издание. Вот что он писал о белорусском языке, на котором была выпущена книга: «В наших провинциях из 100 крестьян, наверно можно найти 10, которые хорошо знают по-польски, когда напротив из 1000 насилу сыщется 1 хорошо знающий русский язык. То напечатав какое-либо белорусское сочинение русскими буквами, смело можно запереть оные в сундук». Какие разительные цифры! Сейчас, наверное, с точностью до наоборот: из 1000 русскоязычных белорусов только 1 знает родной язык.
Незавидная судьба при жизни автора постигла и другое знаменитое его произведение – фарс-водевиль «Пинская шляхта». Оно было запрещено к печати российскими властями. Вот как отозвался об этом водевиле виленский генерал-губернатор: «Подобное произведение, в коем в неприглядном свете выставляется личность должностного лица, (российского) станового пристава, который к этому везде называется „найяснейшая корона“, вряд ли удобно помещать в каком-либо издании, а в особенности в таком как календарь, который предназначается для распространения в среде местного населения».
Негативное отношение российского генерал-губернатора можно понять. Пьеса представляет собой едкую сатиру на «августейшую корону», а не только станового пристава Крючкова. Она жестко критикует царские власти, всю судебную систему, особу государя-императора, который как раз и воплощен в образе Крючкова.
Досталось от автора и местной шляхте. Представители дворянства абсолютно не понимают станового пристава, но все равно предельно уважительно слушают его, не пытаясь даже оспорить тот бред, который он несет. А он то ли в силу собственной глупости, то ли с целью поглумиться над местечковой шляхтой называет совершенно абсурдные даты: в марте, например, у него 69 дней, в октябре – 45. Именно такими датами провозглашается им сначала указ Петра I, а потом указ Анны Иоановны от 1764 года, хотя та царствовала с 1730 по 1740 год. А чего стоят указы Елизаветы Петровны от 49 апреля 1893 года и указ всемиловистейшей Екатерины Великой от 23 сентября 1903 года, которая умерла в 1796 году? Напомним, что сама пьеса была написана в 1866 году. Здесь явные нестыковки не только в числах, месяцах и годах. Однако местная шляхта ни слова не возразила российскому становому приставу, который для пущей важности к указам российских царей отчего-то приплел и Статут Великого княжества Литовского, отмененный в 1840 году.
***
Несмотря на все запреты и злоключения, наш бесшабашный каморник-землеустроитель вошел в белорусскую историю не столько как профессиональный переводчик с польского и зажиточный помещик, любитель одурачить имперские российские власти и как нелегально практикующий адвокат, сколько как патриот, знаток белорусского языка, основатель белорусской драматургии. Он и в ХХI веке по-прежнему с нами.
3 сентября 2016 года в самом центре белорусской столицы (на площади Свободы в Минске) ему открыли бронзовый памятник. Как сказал бы Михаил Булгаков: «Вот он, лукавый и обольстительный литвин, первый белорусский комедиант и драматург. Смотрите и любуйтесь на него, в бронзовом парике и с бронзовыми бантами на башмаках! Вот он – отец белорусской драматургии!»
P.S. Для тех, кто заинтересовался удивительной судьбой нашего героя, которая изобиловала интригами, фальсификациями, невероятными приключениями, а заодно и неоднократными тюремными заключениями, рекомендуем ознакомиться с новой книгой историка Дмитрия Дрозда «Таямніцы Дуніна-Марцынкевіча».
Глава 5. Смерть под копытами лошади, или Николай Костомаров VS Владимира Спасовича
Николая Костомарова и Владимира Спасовича можно смело зачислить в разряд селфмейдменов. Оба они сами сделали себе имя, но не только это их объединяет. В их судьбе многое совпадает. Оба родились в провинции, оба переехали в столицу, оба стали профессорами императорского Санкт-Петербургского университета, оба обожали литературу и историю. Первый получил генеральский чин и слыл любимым историком императора Александра II, второй стал лучшим юристом Российской империи, однако его книги Александр II предпочел запретить. Другими словами, в политических пристрастиях Николай Костомаров и Владимир Спасович серьезно разошлись.
Наша очередная статья о закулисном противостоянии между ними, но больше о судьбе нашего земляка. Мы расскажем о Спасовиче то, о чем российские и польские авторы предпочитают умалчивать. Наше повествование о том, что действительно имело для него ценность в жизни, и о том, почему он убежал от внешнего успеха в столичном Санкт-Петербурге и скрылся в далекой и оппозиционной Варшаве.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Франциск Скорина и его время. Мн., 1990. С. 137—138.
2
Там же, С. 9—10.
3
Там же, С. 138
4
Там же, С. 136—137.
5
Там же, С. 139—140.
6
Там же. С. 138.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



