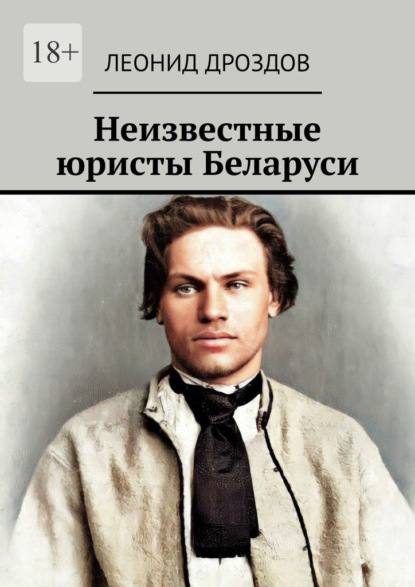
Полная версия:
Неизвестные юристы Беларуси

Неизвестные юристы Беларуси
Леонид Дроздов
Дизайнер обложки Леонид Дроздов
Фотограф Леонид Дроздов
© Леонид Дроздов, 2025
© Леонид Дроздов, дизайн обложки, 2025
© Леонид Дроздов, фотографии, 2025
ISBN 978-5-0065-2561-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Юрист, ставший национальным героем
Не раз приходилось сталкиваться с мнением, что белорусы не только плохо знают своих национальных героев, но и не дорожат своей историей. C этим тезисом в большинстве случаев можно согласиться. Общая тенденция такова: белорусам всегда интересны любые мировые, западноевропейские, американские и даже российские герои, но только не свои собственные, не белорусские. Обоснование этому простое: в последние 250 лет белорусы привычно стояли на мировой сцене с самого краешка, что называется, на задворках великой империи. Виной тому многолетняя оккупация Российской империей и информационный вакуум.
Нашему герою отчасти повезло, отчасти нет. Так, до настоящего времени нет ни одной его полной научной или научно-популярной биографии. Она отсутствовала в популярной серии «Жизнь замечательных людей» («ЖЗЛ») в годы существования СССР. Не появилась его биография и в независимой Беларуси (серия «ЖЗЛБ»). И если в первой серии были изданы тысячи книг, то во второй – всего два десятка. Иными словами, самое время заполнять пробелы.
Тем не менее имя нашего героя на слуху, оно широко известно, каждый знает его со школьной скамьи. В своих стихах его воспели как минимум три народных поэта БССР: Янка Купала, Петрусь Бровка, Максим Танк, а также Янка Сипаков, Михась Машара, Валентин Тавлай, Михась Климкович (автор гимна БССР), Владимир Короткевич, Сержук Соколов-Воюш, Геннадий Буравкин, Сергей Граховский. И это далеко не полный список поэтов, прославивших нашего героя. Однако ему посвящены не только стихи, но и поэмы, песни, пьесы, картины, оперы, балет, спектакли, скульптуры, документальная кинолента и несколько художественных фильмов.
Про него написаны сотни исторических статей, очерков, монографий. Его таинственный образ присутствует на страницах одного из самых знаменитых романов Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим».
Однако в данном случае нас в первую очередь он интересует как юрист. Тем более повод написать о нем есть – в прошлом году исполнилось ровно 180 лет со дня его рождения, а в этом году исполняется 155 лет со дня казни.
Вторая причина написать о нем – в последнее время предпринимаются неоднократные попытки очернить его имя и деятельность.
Для своего времени наш герой получил весьма приличное образование. Он учился в самом престижном вузе – Императорском Санкт-Петербургском университете, в который поступил в 1856 году на юридический факультет на курс камеральных наук. В отличие от небольшой группы казенных студентов наш герой был студентом «своекоштным», т.е. обучался за счет собственных средств.
Главной целью курса камеральных наук было изучение способов извлечения наибольшего дохода из государственных имуществ. Для этого помимо изучения собственно камералистики (экономика, аудит, финансы) изучались и практические науки (сельское хозяйство, лесоводство, горное дело, торговля и т.п.). Камеральное отделение было открыто с 1843 года, и в него вошли предметы, которые читались на юридическом и философском факультетах. Иными словами, оно предназначалось для «приготовления людей, способных к службе хозяйственной или административной». В наше время эту специальность, наверное, назвали бы «хозяйственное право», а квалификацию – «юрист-хозяйственник».
Нам точно известны отметки, которые наш герой получил, обучаясь в университете:
– государственное право Российской империи, государственное право европейских держав, законы государственного благоустройства и благочиния, законы о финансах, политической экономии, статистике, технологии, сельском хозяйстве, ботанике и русской истории – отлично;
– русское гражданское право, русское уголовное право, всеобщая история, логика и психология, гражданская архитектура – хорошо;
– животное царство, русский и французский языки – достаточно.
Поведение – отлично-хорошее.
Как следует из диплома, профильные предметы для юриста-хозяйственника наш герой знал на «хорошо» и «отлично». И только с языками и биологией не очень дружил. Возможно, самым главным и нужным для него был родной язык – белорусский, может быть, значимым был еще польский. Но оба этих языка в Императорском Санкт-Петербургском университете в то время не изучали.
Среди преподавателей, чьи лекции слушал наш герой, были лучшие представители российской науки: знаменитые юристы Константин Кавелин и наш земляк Владимир Спасович, историки Николай Костомаров, Николай Устрялов и др. Кстати, именно В. Спасовича обвинял виленский генерал-губернатор Михаил Муравьев в распространении вольнодумства среди студенчества. И только отсутствие письменных улик спасло знаменитого ученого от неприятностей со стороны властей.
28.07.1860 наш герой закончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата права. Однако в этой степени он был утвержден только 21.01.1861. В этот день ему как раз исполнилось ровно 23 года.
Утверждение в степени кандидата права означало, что кандидатскую диссертацию к этому времени он уже написал и сдал в университет. К сожалению, эту его работу исследователям отыскать не удалось. Безусловно, она была посвящена правовым вопросам, но каким именно – остается тайной. Можно предположить, что ее тематика – законодательство Великого княжества Литовского.
Степень кандидата права давала возможность занять по гражданской службе чин Х класса и право считаться в первом разряде чиновников. В гражданской службе Х классу Табели о рангах соответствовала должность – коллежский секретарь. Среди наиболее известных в истории Российской империи коллежских секретарей можно назвать такие имена, как Александр Пушкин, Иван Тургенев.
При поступлении на военную службу степень кандидата права позволяла занять офицерскую должность по выслуге 3 месяцев в унтер-офицерском звании. Производство в офицеры должно было последовать даже в случае отсутствия вакансий в соответствующем полку.
17.02.1861 он получил свидетельство об окончании Санкт-Петербургского университета, а уже 2 марта этого же года подал виленскому генерал-губернатору прошение о назначении на службу. Однако ему было отказано по причине отсутствия вакансий. Предпринимал он и другие попытки поступить на службу, но отклонены были и прошения о зачислении в Министерство государственных имуществ и другие ведомства. Удивительное дело, но Министром государственных имуществ в то время был Михаил Муравьев, тот самый, который получил страшное прозвище «Вешатель». Каким-то невероятным образом, но судьбы двух этих людей переплелись, чтобы потом один отдал приказ казнить другого.
Собственно говоря, возможно именно по причине отсутствия официальной работы нам не известна профессиональная деятельность нашего героя как юриста. Зато он стал широко известен как публицист и революционер.
И все же с его именем связана не одна детективная история. Свою корреспонденцию он по большей части писал симпатическими чернилами, дабы посторонние были в неведении его мыслей и задумок. По причине свободомыслия и распространения изданий, призывавших к восстанию против царизма, он находился на нелегальном положении.
С 29.10.1862 по 28.01.1864 за ним безуспешно охотилась вся жандармерия Виленской и Гродненской губерний. Почти полтора года власти не могли напасть на его след. Некоторые жандармы даже получили выговоры за недостаточное рвение в розыске. Сам герой, чтобы оставаться неизвестным, постоянно сменял фамилии, под которыми проживал на постоялых дворах и съемных квартирах. Вот только некоторые из них: Макаревич, Хамович, Чарновский, Витаженец.
Нигде он не задерживался надолго. Не раз и не два ему приходилось уходить от полицейской погони. Однажды наш герой пробыл в имении отца всего только день и уехал, несмотря на все просьбы старика остаться. А буквально на следующий день нагрянула полиция. Царские сыщики следовали за ним по пятам. В этот раз они разминулись, полиция была с одной стороны Немана, а он – с другой, уже подъезжал к Гродно.
В другой раз, а дело было в самом начале зимы 1863 года, чтобы уйти от ареста на конспиративной квартире, ему пришлось ночью через окно выбраться на черепичную крышу в одном белье. И пролежать там на морозе все время, пока шел обыск. Про этот случай он сам написал своему другу: «Не волнуюсь ни о чем, то через окно на крышу, то другими способами ускользаю. Пока бог охраняет, но если придется повиснуть, то пусть это будет на потеху всем литовским панам и пресветлой Москве».
Тем не менее 29.01.1864 в результате предательства он все же был арестован. А по окончании следствия, спустя 40 дней после ареста, 10.03.1864 как один из главных организаторов восстания против царизма в Беларуси и Литве был повешен на Лукишской площади в Вильно. Ему было полных 26 лет. С момента получения диплома кандидата права минуло всего 3 года с небольшим.
– Имя. В памяти народа остался не под тем именем, которое официально носил. Его полное имя – Викентий Константин Калиновский, однако все его знают как Кастуся Калиновского. Изначально он был крещен в католическом костеле под именем Викентий, вторично, через два месяца, под двумя именами – Викентий Константин. За глаза его порой называли со скрытой ухмылкой «Круль Литвы» (Король Литвы).
– Родина. Он родился в Мостовлянах Гродненской губернии Российской империи. Жаркий спор за эту территорию белорусы с поляками ведут с 1569 года. Только в 1945 году она окончательно отошла от БССР к Польше. Д. Якушовка, где находилось имение отца, в котором провел свое отрочество К. Калиновский, сейчас находится в Свислочском районе Гродненской области.
– Национальность и язык. За национальность героя спорят три народа: белорусы, поляки и литовцы. Он был отличным публицистом, издал 7 номеров газеты «Мужицкая правда», они написаны на белорусском языке латиницей. Это была первая нелегальная белорусская газета. Известны также несколько номеров польскоязычной газеты «Знамя свободы», которая приписывается его авторству. Свои материалы он часто подписывал псевдонимом «Яська-гаспадар з-пад Вільні». Его единственное известное предсмертное стихотворение также написано по-белорусски.
– Пароль. Предатель, выдавший местонахождение руководителя восстания властям, выдал и пароль, которым пользовались повстанцы: «Каго любіш? – Беларусь! – То, узаемна!». И пароль этот помогает понять многое в национальной принадлежности нашего героя и его политических пристрастиях.
– Казнь. Когда оглашали приговор, назвали его полное имя и социальный статус: дворянин Викентий Константин Калиновский. В ответ он заспорил: «У нас нет дворян, у нас все равны!». Его предсмертные слова стали знамениты.
– Могила. Изначально его похоронили тайком на склоне горы Гедимина в бывшей столице ВКЛ – Вильно. В 2017 году в результате оползня обнаружены 4 могилы с останками 7 казненных революционеров, среди них предположительно К. Калиновский. После идентификации останков он нашел вечный покой в каплице на кладбище Росса в Вильнюсе.
– Орден. Один из высших орденов нашей страны был назван в его честь, но так никогда и никому не был вручен.
– Память. В нашей стране есть только один скромный памятнику ему (г. Свислочь). Улиц, названных в его честь, гораздо больше (Минск, Гродно, Могилев, Барановичи, Ганцевичи, Жодино, Лида, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Островец, Ошмяны, Полоцк, Пружаны, Свислочь).
– Эпиграф. После обретения независимости правительственная газета «Рэспубліка» длительное время выходила с его словами, которые были взяты в качестве эпиграфа: «Не народ для ўрада, а ўрад для народа». Сейчас этих слов в газете в качестве эпиграфа уже нет.
– Политическое завещание: «Ведь я тебе из-под виселицы говорю: Народ, ты только тогда заживешь счастливо, когда над тобой царя уже не будет».
Глава 2. Юрист, сожженный на костре
В 10 км к северу от границы с Польшей и в 27 км к северо-западу от центра Бреста стоит небольшая деревенька Лыщицы. Сегодня, помимо жилых домов, там есть только магазин и кладбище, и ничего больше. Согласно статистическим данным в 2018 году в ней числилось меньше 80 человек. Однако в прежние времена народу там жило много. Например, в 1878 году – раз в шесть больше. А веком ранее, надо полагать, население Лыщиц было еще многочисленнее. Рядом с ныне захудалой деревенькой расположено крупнейшее месторождение торфа. Однако знаменита она совершенно другим: тем, что 4 марта 1834 года в ней появился на свет паренек, который был весьма способен к разным наукам и носил фамилию по месту своего рождения.
Поначалу жизнь его складывалась удачно и карьера развивалась успешно. Начальное образование он получил в местной школе. В 1648 году окончил Брестский иезуитский коллегиум. В дальнейшем принимал участие в многочисленных оборонительных военных кампаниях, которые вела его страна – Великое княжество Литовское, Русское и Жомойтское – со странами-аргессорами: Московией, Швецией, Османской империей. Однако никакие войны не способны были ослабить его тягу к знаниям. Свое обучение молодой человек продолжил в Виленской духовной академии. В 1658 году вступил в орден иезуитов и принял духовный сан. Затем учился в Кракове и Калише, где готовили преподавателей иезуитских школ. По окончании Калишской студии преподавал во Львове, в 1665 году стал помощником ректора родного для него Брестского иезуитского коллегиума.
В 1666 году, находясь в возрасте Христа, наш герой внезапно отказывается от весьма успешной духовной карьеры, выходит из ордена иезуитов, женится, покидает Брест и селится в своем родовом имении Лыщицы, которое принадлежит его роду в третьем поколении. Здесь основывает собственную школу – демократическую по сути и светскую по содержанию, в которой учит детей крестьян и шляхты: преподает письменность, математику, языки, основы некоторых наук. Параллельно занимается юридической практикой. И надо сказать, дело становится не только успешным, но и прибыльным. В скором времени он приобретает определенный авторитет у местной шляхты. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что его нередко выбирают послом от Брестского воеводства на общие сеймы Речи Посполитой (1669, 1670, 1672, 1674).
Кстати, под Речью Посполитой многие современники отчего-то понимают Польшу. На самом же деле эта была конфедерация, т.е. союз двух самостоятельных государств: Королевства Польского и Великого княжества Литовского – во главе с монархом, точнее, с двумя – королем польским и великим князем литовским, но в одном лице. Избрание и возведение на трон в каждой из стран проводилось самостоятельно. В интересующее нас время высшую государственную власть имел выборный король польский и великий князь литовский Ян III Собесский. Привелеем именно этого монарха в 1682 году наш герой был назначен на должность брестского подсудка. Говоря современным языком, он стал первым помощником брестского судьи, наравне с писарем земским входил в состав суда, а порой заменял судью. Объективный и справедливый, множество судебных дел он разрешил в пользу местных жителей (мещан и шляхты), которые судились, в том числе с иезуитами, за незаконно захваченные земли, долги и прочее. Кроме того, наш герой участвовал в работе высшего апелляционного суда – Литовского трибунала, был писарем королевского суда. И не оставлял преподавательскую деятельность.
К определенному времени ему удалось скопить весьма приличные средства. Но распорядился он ими не лучшим образом: опрометчиво одолжил 100 тысяч талеров соседу, которого считал лучшим другом. Забыв, наверное, старую истину: хочешь нажить смертного врага – одолжи денег лучшему другу. Забегая вперед, отметим, что в нашей истории эти слова полностью себя оправдали.
Понятно, что сосед и лучший друг, а звали его Ян Бжоска, был в курсе всех личных и семейных дел своего заимодавца. И когда наш герой потребовал вернуть долг, так называемый друг похитил у него рукопись, а именно 15 тетрадей, или 530 страниц убористого текста, написанного на латыни, с сенсационным по тем временам названием —«О несуществовании бога». Вместе с рукописью Бжоска выкрал книгу протестантского ученого Альстеда «Натуральная теология». На ее страницах наш герой собственной рукой сделал пометки следующего характера: «мы, атеисты, так думаем», «значит, я показываю, что бога нет» и другие подобные. Видимо, брестский подсудок обсуждал с «другом» свои мысли и свои записи.
Воспользовавшись доверием, лжедруг составил донос виленскому епископу, в котором обвинил нашего героя в атеизме, отрицании бога и прочих смертных грехах. В скором времени по приказу виленского епископа брестского подсудка арестовали. А в 1687 году церковный суд приговорил его к сожжению. Однако решение церковного суда в отношении светского лица вызвало многочисленные протесты брестских мещан и шляхты. В соответствии со Статутом ВКЛ 1588 года светские лица не подлежали суду духовной власти. Брестский подкоморий (судья в земельных спорах) Писаржевский обвинил католическое духовенство в желании ввести в ВКЛ испанскую инквизицию. Рассмотрев протест, Литовский трибунал отменил вынесенный церковным судом приговор.
Духовенство не желало мириться с таким решением. Больше всего католические епископы были возмущены тем, что высший апелляционный суд ВКЛ фактически защищает безбожника. Епископы настояли, чтобы дело было передано на рассмотрение объединенному сейму Речи Посполитой в Гродно (февраль 1688 года). И нашего героя снова взяли под стражу по приказу виленского епископа.
Теперь воспротивилось все брестское воеводство, расценив принятую меру как противоправное действие, которое противоречит уголовному законодательству ВКЛ. Статут ВКЛ 1588 года не позволял ограничивать свободу шляхтичей, пока не будет доказана вина. В связи с этим шляхта рекомендовала своим послам не рассматривать на сейме других дел до тех пор, пока нарушение закона не будет устранено. Иными словами, послы брестского воеводства угрожали применить право «либерум вето», т.е. наложить запрет на любое решение сейма, в том числе воспрепятствовать его проведению.
В соответствии с этой установкой брестский земский писарь Людвик Константин Поцей обличал католическое духовенство в стремлении установить свое господство в стране и управлять государством методами испанской инквизиции. Это дело против брестского подсудка он рассматривал не иначе как меч, занесенный над головами вольной шляхты. Он обвинял в противоправности духовенство, которое дошло до того, что на основе подлого доноса весьма сомнительной личности одного из членов брестского суда (брестского подсудка) насильно вытащили из дома, отобрали бывшую при нем наличность, фактически ограбили и бросили в тюрьму. Такое поведение виленского епископа и его пособников наносит вред шляхетской вольности, закрепленной Статутом 1588 года, полностью противоречит законам. Потому он, Людвик Поцей, не считает возможным рассмотрение любого дела на сейме, пока процессуально не будет решен этот вопрос.
В ответ выступили несколько сеймовых послов. Они указали, что, по их мнению, в отношении человека, отрицающего существование Бога, действие законов приостанавливается и что в лице Людвика Поцея брестский подсудок нашел себе не только лучшего защитника, но и преданного ученика.
На это обвинение господин писарь брестский был вынужден оправдываться. Похоже, епископы и самого Людвика Поцея готовы были посадить на скамью подсудимых рядом с его товарищем. Поэтому брестский земский писарь пояснил, что у него нет намерения оправдывать атеизм, но он ставит под сомнение именно способ действий католического духовенства. В частности, поступки брестского подсудка нельзя именовать недавно совершенным преступлением, ибо его тетради написаны много лет назад, а подсудок может представить доказательства своего примерного поведения и образа жизни. Более того, он готовится принять причастие. И этому есть немало свидетелей. И нет у него никаких учеников. А Ян Бжоска, будучи в течение многих лет близким приятелем брестского подсудка, написал на него ложный донос по злобе, поскольку должен ему значительную сумму, вернуть которую не в состоянии.
Эта речь защитника вызвала возражения других послов. Слово взял председатель посольской палаты Станислав Антоний Щука. Он отметил, что его правовое положение не позволяет ему примкнуть ни к одной из сторон и он должен хранить нейтралитет, но не может не поддержать тех, кто защищает честь Бога. С тем, что у брестского подсудка нет учеников, председатель не согласился, отметив, что по крайней мере один ученик у него точно имеется – тот самый земский писарь, который пытается его защитить. Этот выпад был сделан персонально против Людвика Константина Поцея.
В дальнейшем на заседании решали, к юрисдикции какого суда относится дело брестского подсудка. Людвик Поцей предложил, чтобы дело рассматривали в установленном порядке, а лучше всем сеймом. Однако это предложение было отвергнуто. И не только из-за того, что его выдвинул Людвик Поцей, а главным образом потому, что все понимали: достаточно всего лишь одному послу на сейме воспользоваться правом «либерум вето» – и весь показательный суд сведется к юридической дискуссии. Вероятность того, что в результате суда на общем сейме брестский подсудок выйдет сухим из воды, была стопроцентной.
По этой причине католическое большинство настояло на том, чтобы обвиняемого в атеизме брестского подсудка судил не весь сейм, а только сеймовый суд, т.е. суд, состав которого избран на сейме. Король польский и великий князь литовский Ян III Собесский поддержал это решение. Поэтому предложили, чтобы обвиняемый не позднее четырех недель предстал перед сеймовым судом, который будет заседать в Варшаве.
Таким образом, на Гродненском сейме 1688 года дело по существу не рассматривалось, и наш герой вышел на свободу.
Из 79 заседаний Варшавского сейма в 1689 году это дело слушалось на 19. В обсуждении активно участвовали более 100 сенаторов и послов. Представители католического духовества – 17 епископов во главе с папским нунцием – единодушно требовали для атеиста смертной казни.
И вот 3 января 1689 года слово на сейме вновь взял писарь брестский Людвик Поцей. Он все же решился применить свое право «либерум вето», причем до тех пор, пока не получит удовлетворения за резкие слова, высказанные в его адрес председателем посольской палаты. Видимо, Поцей преследовал цель любой ценой приостановить работу сейма. Однако все тут же бросились его успокаивать и фактически утихомирили. В общем под деликатным нажимом других послов от своего протеста он отказался.
Помимо Людвика Константина Поцея, нашему герою назначили еще двух защитников – адвокатов Илевича и Витковского. Обвинителей было двое, один из них – Дионисий Романович. Прокурором в сеймовом суде выступал Симон Курович Забистовский.
Во время своего выступления защитник Илевич отметил, что нельзя говорить о недавнем преступлении (crimen recens) обвиняемого, поскольку он написал свое сочинение 15 лет назад, примерно в 1674 году. Прокурор не преминул использовать этот факт против обвиняемого и поинтересовался: если с момента написания первой части трактата прошло столько времени, почему обвиняемый не написал вторую часть, почему в сочинении нет ни единой строки за Бога, а все слова и выводы только против?
Епископы один за другим требовали показательного наказания для брестского подсудка за атеизм. Кроме того, они безапелляционно заявили, что Людвику Поцею не следует высказывать свое мнение в деле, связанном с атеизмом, поскольку он не изучал теологию. При этом познанский епископ Витвицкий обратил внимание сейма на грамматические ошибки, допущенные земским писарем Поцеем. Возможно, свои аргументы писарь земский писал в спешке, но в том, что это было персональное оскорбление, никто не сомневался. Людвик Поцей посчитал, что его публично обвинили в непрофессионализме. И ответил на этот выпад очень резко. Из-за склоки даже пришлось прервать заседание сейма.
Очередной скандал случился 11 февраля 1689 года. В своем выступлении хелминский епископ Казимир Опаленьский выказал удивление, что дело об атеизме идет с такими долгими задержками. Пытаясь ускорить вынесение приговора, он бросил в лицо королю: «Либо нет короля, либо нарушаются законы». Эти слова были восприняты как оскорбление королевского величия. Разыгрался нешуточный скандал. Один из выступавших даже потребовал, чтобы епископ хелминский завершил свою речь, став на колени перед королем.



