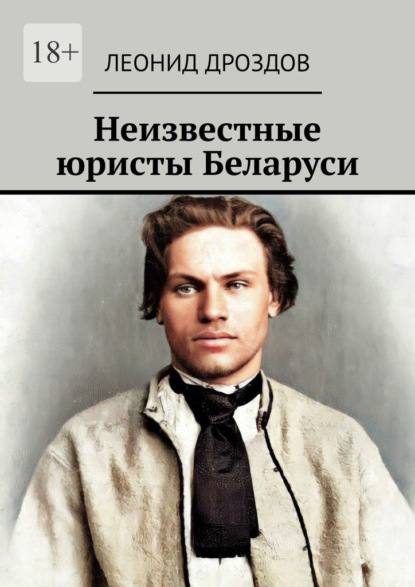
Полная версия:
Неизвестные юристы Беларуси
Только 15 февраля 1689 года начался процесс над брестским подсудком, обвиненным в атеизме. Епископы вновь ставили вопрос о церковном суде и требовали учесть приговор, ранее вынесенный ими в отношении обвиняемого. Снова разгорелся спор между светскими сенаторами (которых, кстати, было большинство) и духовными. «Свет» позицию епископов проигнорировал. Процесс начался заново.
Обвиняемый признал, что предъявленные рукописи написаны им самим, и обратился к королю с просьбой дать ему защитника, чтобы судили его объективнее, нежели в церковном суде. Король раздраженно спросил, для чего ему защитник, и грубо заметил, что защитника для оправдания своего атеизма он не найдет. Но, как мы знаем, по крайней мере один защитник у него был.
Выступая в суде, брестский подсудок пояснил, что его сочинение должно было называться «Диспут, в котором католик побеждает атеиста». Однако он написал только первую часть, содержащую аргументы атеиста, поскольку его знакомый теолог, прочитав трактат, не рекомендовал продолжать работу над ним.
Наш герой также попросил предъявить ему письменное обвинение, чтобы ознакомившись с ним, подготовиться к защите.
18 февраля 1689 года прокурор Симон Курович Забистовский повторил свои обвинения. Защитник Илевич против них возражал. Представители духовенства по-прежнему требовали церковного суда.
19 февраля 1689 года прозвучало предложение передать обвиняемого на суд Папы Римского. Бельский воевода Марек Матчиньский с этим не согласился. Писарь литовский Андрей Гелгут единственный из всех выступил в этот день против суда над обвиняемым. Тем временем король решил, что дело ведется в соответствии с законом и суд может продолжаться. Затем рассмотрение дела было приостановлено ввиду болезни обвинителя.
25 февраля 1689 года снова произнес речь защитник брестского подсудка. Он уличал Яна Бжоску в клевете, обвинял его в краже имущества обвиняемого, совершенной во время ареста, доказывал, что доносчик не руководствовался религиозным благочестием, а исходил исключительно из своекорыстных побуждений. Оспаривал он и обвинения в атеизме. А свое несогласие аргументировал тем, что брестский подсудок никогда сам не разделял изложенных идей, а лишь приводил чужие мысли с целью продемонстрировать, что доказательств существования Бога, приведенных Альстедом, недостаточно, что его доводы ничтожны и неубедительны. Защита акцентировала внимание на том, что обвиняемый ранее вел праведный образ жизни и исполнял все христианские обряды, кроме того, он раскаялся в ереси и просит помилования.
Обвинение опровергло доводы защиты, заявив, что брестский подсудок – еретик, все еще не способный вернуться в лоно церкви, что он сознательный атеист, отвергший церковь и Бога, что его раскаяние – всего лишь попытка добиться помилования.
На следующий день, 26 февраля, обвиняемый попросил перевести его в монастырь и дать возможность письменно подготовиться к защите, чтобы доказать свою невиновность.
Тем не менее в этот же день приступили к голосованию. Первым взял слово кардинал Радиовский. Он отметил, что адвокаты весьма успешно защищали своего клиента, но его вина все равно очевидна. Он должен быть предан сожжению на костре, причем в таком месте, чтобы казнь видели как можно больше людей. А еще кардинал предложил на месте казни соорудить памятник, который заклеймит это преступление на веки вечные. Другие епископы тоже настаивали на смертной казни. Киевский епископ Андрей Залусский потребовал еще более суровой кары: сначала отсечь подсудимому руку, которая написала эти богохульства, затем сжечь его живым на костре, а пепел развеять по ветру. Однако епископ инфлянский Миколай Поплавский предложил смягчить наказание – просто отсечь обвиняемому голову.
Голосование продолжалось и 28 февраля. Большинство выступало за смертную казнь, только по-прежнему не могли договориться о способе приведения приговора в исполнение. Самые разные предложения высказывали и в отношении имущества обвиняемого. Одни предлагали все имущество конфисковать и половину отдать доносчику. Другие с этим не соглашались и считали противозаконным награждать доносчика, ибо это можно расценить как поощрение доносительства. Устанавливать памятник на месте казни тоже посчитали излишним и даже вредным, потому что хотели, чтобы это преступление было поскорее предано забвению.
Среди светских сенаторов и послов только трое публично осмелились выступить в защиту подсудимого. Все они являлись представителями ВКЛ. Это брестский земский писарь Людвик Константин Поцей (кстати, в будущем он займет одну из высших должностей в ВКЛ – станет виленским воеводой), писарь литовский Андрей Казимир Гелгут и смоленский воевода и брест-литовский каштелян (начальник брестского замка) Стефан Константин Пясечинский. Надо полагать, Поцей и Пясечинский были лично знакомы с подсудимым, по крайней мере на это указывают их должности.
В частности, воевода смоленский Стефан Константин Пясечинский заявил, что не считает обвиняемого подлежащим наказанию, поскольку не находит у него закоренелости воли, потому что он верит в Бога. К тому же обвиняемый достаточно настрадался во время длительного тюремного заключения.
Писарь брестский Людвик Константин Поцей заявил, что не следует казнить обвиняемого, так как его вина не доказана полностью. И потребовал возвратить обвиняемому свободу, ввиду того что духовенство нарушило основные законы государства.
Писарь литовский Андрей Казимир Гелгут утверждал, что обвиняемого нельзя подвергнуть никакому наказанию, кроме предусмотренного законом. И в данном случае следует выбрать меру, которую сам Бог определил преступникам: «Не хочу смерти грешника, но желаю, чтобы он жил и обратился».
На суде произошел еще один казус, который не остался без внимания иностранных наблюдателей. 26 февраля 1689 года обвиняемый сообщил, что план второй части трактата был бы обнаружен в его бумагах, если бы тот человек, который его обвинил, не присвоил и не уничтожил его. Это заявление наделало много шума. Фактически оно перевернуло все с ног на голову. Получалось, что все обвинения были искусно подтасованы.
Послы потребовали, чтобы доносчик Ян Бжоска и семеро свидетелей публично присягнули на Библии, что не утаили более никакой рукописи. Иностранные наблюдатели считали такой способ принесения присяги позорным, бесчестящим всю семью присягнувшего. Тем не менее 7 марта 1689 года Ян Бжоска такую присягу принес.
Приговор же вынесли гораздо раньше. Уже 28 февраля сеймовый суд решил казнить обвиняемого сожжением. Но прежде чем исполнить приговор, потребовали, чтобы он самолично сжег собственные сочинения. Обвиняемым был не кто иной, как брестский подсудок Казимир Лыщинский.
Целый месяц ему не объявляли приговор. Видимо, шла ожесточенная борьба между сторонниками и противниками казни. На это указывает непоследовательность действий властей. С одной стороны, они хотели, чтобы Казимир Лыщинский публично раскаялся в атеизме и отказался от своего сочинения. Это бы рассматривалось как триумф католической церкви. С другой – предпринималось все возможное, чтобы дело было непременно доведено до казни, ибо публичное раскаяние не предусматривало применения крайних мер к обвиняемому.
10 марта 1689 года, уже после принесения присяги доносчиком, Казимир Лыщинский публично покаялся в своих заблуждениях. Чтобы склонить нашего героя к отказу от атеистических взглядов, ему обещали даровать жизнь. Из писем киевского епископа Андрея Залусского известно, что уговаривали Лыщинского очень долго и сначала безуспешно. Как утверждал сам Залусский, он хотел, чтобы Лыщинский снова обратился к вере и жил, однако у того было «алмазное сердце», которое лишь позже смягчилось (т.е. он согласился отказаться от своих взгядов и получить отпущение грехов).
Церемонию отречения проводили пышно, в присутствии короля, королевы и многочисленной свиты. Казимир Лыщинский стоял на кафедре костела Святого Яна в Варшаве. Осужденный публично отказался от своих взглядов и попросил, чтобы его не сжигали на костре, поскольку он боится, что физическая боль может ввести его в искушение. Ему вручили текст отречения. Наш герой стал читать его вслух, но в какой-то момент голос его дрогнул. Тогда стоявший рядом ксендз продолжил вместо него.
28 марта 1689 года король приказал литовскому надворному маршалку Яну Каролю Дольскому огласить Казимиру Лыщинскому смертный приговор. Видимо, власти не были удовлетворены состоявшимся отречением и расценили происшедшее как публичную демонстрацию Лыщинским приверженности своим идеям. Возможно, они жаждали и отречения, и казни. Католическое духовенство настойчиво требовало смерти обвиняемого.
После чтения приговора к королю подошли два епископа с просьбой смягчить приговор. Сам Казимир Лыщинский попросил сократить его муки и отсечь его голову мгновенным ударом меча. Король созвал сенаторов и послов, делегированных в состав суда, и, посоветовавшись с ними, согласился удовлетворить последнюю просьбу осужденного. Казимир Лыщинский поблагодарил короля за эту милость, после чего его вывели из зала заседаний.
Казнь должна была состояться на следующий день. Но 29 марта внезапно разразилась сильнейшая буря, которая могла вызвать пожар в городе, так как дома по большей части были деревянные. Поэтому исполнение приговора перенесли на следующий день.
30 марта 1689 года Казимира Лыщинского возвели на эшафот. Он публично сжег свои сочинения, затем ему отрубили голову, а тело бросили в костер. По другим сведениям, тело Лыщинского вывезли за город и там сожгли. Пеплом зарядили пушку и выстрелили в направлении Турции.
Имущество нашего героя конфисковали, а дом, в котором он жил, разрушили и строить на том месте что-либо запретили.
Нам неизвестно, отдал ли Ян Бжоска долг, причитавшийся Казимиру Лыщинскому, его наследникам – жене и детям. Мы также не знаем, как закончил жизнь доносчик и клеветник. Но мы точно знаем, что католические епископы и другие лица, принимавшие активное участие в этом деле, нарушили закон. Это подтверждает приговор сеймового суда, который открывает еще один скандальный момент. Обвинитель был приговорен к штрафу за заключение шляхтича в тюрьму до вынесения приговора.
30 марта 2019 года исполнилось 330 лет со дня казни подсудка брестского суда Казимира Лыщинского. Рукопись его трактата не сохранилась. От нее в судебных документах осталось всего пять небольших фрагментов, которые занимают меньше чем полстранички текста. Среди них есть такая фраза: «Человек – творец Бога, а Бог – создание и творение человека». Она – безусловное свидетельство того, что ее автор – умнейший человек, который намного опередил свое время. Только вот стоила ли она того, чтобы отдать за нее жизнь?
Из этой истории можно сделать и еще один полезный вывод, ибо есть и еще одна замечательная поговорка, упомянуть которую вполне уместно в контексте этой статьи: «Знает один – не знает никто, знают двое – знают все». Иными словами, иногда лучше промолчать, нежели сказать. Однако далеко не всегда мы поступаем так, как подсказывает нам разум… Кроме того, деятельность ученого, юриста, философа по определению предполагает публичность.
Глава 3. Франциск Скорина – разработчик Статута ВКЛ 1529 года?
На территории Беларуси первый Статут ВКЛ начал применяться 29 сентября 1529 года. 2029 год – юбилейный, Статуту исполнится 500 лет. Работа по подготовке первого Статута 1529 года велась в течение нескольких лет в первой четверти XVI века. Первый вариант Статута был подготовлен уже в 1522 году, но не был утвержден, работа над ним продолжалась еще на протяжении 7 лет.
Создатели Статута 1529 года
Статут составляла комиссия под руководством канцлера ВКЛ Альбрехта Гаштольда (должность канцлера он занял в 1522 году). Вне всяких сомнений, в его подготовке принимали участие и сотрудники великокняжеской канцелярии. Это были их непосредственные должностные обязанности. Иных правоведов, занимавшихся подготовкой Статута, установить с абсолютной точностью сегодня невозможно.
В некоторых публикациях создателем Статута 1529 года называют виленского епископа Яна, внебрачного сына короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Старого. Также среди разработчиков Статута 1529 года называют секретаря этого епископа – Франциска Скорину. Сразу оговоримся, по времени и месту действия такое предположение вполне допустимо. Франциск Скорина прибыл в Вильно из Праги в 1521 году. К этому времени ему было 52 года, а епископу Яну из рода Ягеллонов было примерно 22 года, и он управлял Виленской епархией с 20-летнего возраста. Римский папа Лев Х удовлетворил эту прихоть в отношении сына польского короля (в то время студента Болонского университета). При этом всю полноту духовной власти Ян получил только через 7 лет, приняв духовный сан.
Был ли Франциск Скорина специально приглашен епископом Яном, или он позже обратил внимание на интеллектуала из Полоцка с двумя докторскими степенями – это в точности не известно. Доподлинно, что Франциск Скорина работал у епископа Яна в качестве секретаря (эти сведения подтверждаются документами).
Тем не менее знаменитый историк права – профессор БГУ, доктор юридических наук Иосиф Юхо в свое время высказал гипотезу, что в подготовке Статута 1529 года участвовал Франциск Скорина.
На наш взгляд, это только предположение, и не более. Франциск Скорина – первый в белорусской истории дважды доктор наук. Знаменитый полочанин имел несколько ученых степеней: доктор наук вольных (Краковский университет, Польша) и доктор медицины (Падуанский университет, Италия). На наличие этих ученых степеней у Скорины указывают документы Падуанского университета, а также королевские, великокняжеские и епископские грамоты. Если следовать версии Иосифа Юхо, Скорина имел также степень доктора права, что не подтверждается документально. Если бы Скорина имел еще и такую степень, он, вне всяких сомнений, не стал бы ее скрывать и предъявил бы соответствующие документы в Падуе.
При этом также ничего не известно относительно того, изучал ли Скорина правоведение и заканчивал ли юридический факультет какого-либо университета. Ставить знак равенства между понятиями «доктор наук вольных» и «доктор права», на наш взгляд, не совсем корректно.
Белорусскому понятию «навукі вольныя» на русском языке соответствует понятие «семь вольных наук» («семь свободных искусств»). В курс «вольных наук» входили следующие предметы: грамматика, логика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка. В средневековых университетах «навукі вольныя» составляли первую ступень высшего образования и преподавались на низшем, подготовительном факультете – факультете свободных («вольных») наук. На этом факультете преподавали также философию и некоторые другие науки.
Также известно, что правительство ВКЛ рассматривало вопрос о печатании Статута 1529 года типографским способом. В частности, эту тему неоднократно поднимали на сеймах (в 1544 году в Бресте, в 1547 и 1551 годах в Вильно). Однако уже в 1535 году Франциск Скорина навсегда покинул нашу страну и прочно обосновался в Праге. Его издательская деятельность в Вильно относится к более раннему периоду (1522 – 1525 годы). Таким образом, Франциск Скорина не был задействован на издании Статута 1529 года и как первопечатник. Несмотря на стремительное развитие книгопечатания в то время, этот основной правовой документ ВКЛ в XVI веке не был опубликован, а переписывался от руки.
Тем не менее Иосиф Юхо предполагает, что Франциск Скорина в данном случае выступал или мог выступать как один из авторов и редакторов текста Статута. Этот вывод базируется на том основании, что в отличие от всех иных феодальных судебников эпохи средневековья Статут ВКЛ 1529 года характеризуется не только своим большим объемом, но и значительным совершенством правовой мысли. Кроме того, Иосиф Юхо указывает, что мысли, высказанные Франциском Скориной в предисловиях и комментариях к его переводу Библии, весьма сходны с теми идеями, которые отражены в Статуте 1529 года.
Иосиф Юхо также подчеркивает, что из работ, опубликованных Франциском Скориной, следует, что он хорошо знал местные обычаи и право, историю римского права и право некоторых других стран. Сопоставив некоторые нормы Статута 1529 года с правовыми взглядами Скорины, он сделал вывод, что множество идей, высказанных белорусским первопечатником, были на практике реализованы в Статуте.
Так в частности, Франциск Скорина считал лучшей формой государственного управления монархию при широком участии народа. Он писал: «права земская, еже единый каждый народ с своими старейшинами, ухвалили суть водле, яко же ся им налепей видело быти»1. Высказанная Франциском Скориной мысль о главенстве народа, народном суверенитете отчетливо видна в его словах о том, что «справа всякого собрания людского и всякого града, еже верою, соединением ласки и згодою посполитое, доброе помножено бывает»2. Тем самым, Франциск Скорина утверждает, что только государство или город, в котором граждане живут в согласии и заботятся об общих интересах будут процветать.
Провозглашая новые идеи о законодательстве, он считал необходимым, чтобы новый закон был «почтивый, справедливый, можный, потребный, пожиточный подле прирождения, подлуг обычаев земли, часу и месту пригожий, явный не имея в собе закрытости, не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму написаный»3.
В этих словах Франциска Скорины заключен целый ряд правовых принципов, основанных на теории естественного права, считал Иосиф Юхо. Он указывал, что провозглашение Скориной принципа добропорядочности и справедливости права само по себе уже являлось критикой феодального права той поры, которое не было ни добропорядочным, ни справедливым в отношении простых людей. Настаивая на принципе полезности законов для населения и соответствия местным обычаям, времени и месту, Скорина отвергал претензии духовенства на распространение норм римского или византийского права либо чуждых местному населению норм права соседних государств. Как раз идеи о приоритете местного права, а также о единстве права для всех людей получили отражение в Статуте 1529 года.
Значительный интерес, по мнению Иосиф Юхо, также представляют взгляды Скорины на классификацию права. Скорина считал, что право следует подразделять на естественное и писаное. Согласно Скорине, естественное право присуще каждому человеку в равной степени и каждый им наделен вне зависимости от классовой или сословной принадлежности. «Закон прироженый в том наиболее соблюдаем бываеть: то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети… сей закон прироженый написан ест в серци одиного кажного человека… А тако прежде всех законов и прав писаных закон прироженый всем людям от господа бога дан ест»4. В цитате, выделенной жирным курсивом, легко угадывается одна из библейских заповедей «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Писаное право Скорина подразделял на божеское, церковное и земское. Божеское и церковное право он ставил на второе место после прироженого (естественного). «Закон же написанный или от бога ест данный, яко суть книги Моисеевы и светое евангелие, или от людей установленный, яко суть правила светых отец, на сборах прописаные».
В свою очередь земское право он подразделял в зависимости от общественных отношений на:
посполитое, которое включает в себя нормы гражданского и семейного права «яко мужа и жены почтивое случение, детей пильное выхование, близко живущих схождение, речи позыченое навращение, насилию силою отопрение, ровная свобода всем, общее мнение всех»;
международное, которое Скорина называл «языческое, от многих убо языков ухвалено ест»;
государственное и уголовное он называл «царское»;
«рицерское или военное, еже на войне соблюдаемо бываеть»;
местьское (городское), морское и купеческое (торговое) право5.
Такое деление права в значительной степени содействовало развитию не только правовой теории, но и кодификации.
Подобная классификация применена при подготовке Статута 1529 года.
Разграничение земского права с божеским и церковным имело глубокий теоретический и практический смысл, потому что не признавало притязания католического духовенства на руководство законотворчеством и судебной практикой.
По мнению Скорины, одной из важнейших целей уголовного наказания является, предупреждение преступления. «И вчинены суть права, или закон, для людей злых, абы боячися казни, усмирили смелость свою и моци не имели иным ушкодити, и абы добрыи миж злыми в покои жити могли»6.
Анализ именно этих правовых идей, высказанных Ф. Скориной, позволил Иосифу Юхо сделать вывод, что он положил начало развитию правовой науки в Беларуси, причем не только ее теоретических проблем, но и практики. Иосиф Юхо прямо называет Франциска Скорину основоположником белорусской науки о государстве и праве. По крайней мере первый юридический комментарий к Библии написал именно Франциск Скорина.
По мнению Иосифа Юхо, можно считать достаточно обоснованным вывод, что Франциск Скорина участвовал в создании Статута 1529 года.
Сама по себе гипотеза Иосифа Юхо довольно интересная, но очень спорная и до настоящего времени документально не доказана.
Все выводы, которые были сделаны И. Юхо, относятся к анализу только одного из сказаний, сделанным Франциском Скориной к собственному переводу Библии. Речь идет о «Сказании доктора Франциска Скорины из Полоцка в книги второго закону Моисеева». По объему этот комментарий Франциска Скорины занимает порядка четырех печатных страниц стандартного книжного формата. Судя по всему, никакие иные предисловия и послесловия к Библии, сделанные Франциском Скориной, Иосиф Юхо не анализировал. По крайней мере в трех напечатанных работах Иосифа Юхо ссылки на иные работы Франциска Скорины отсутствуют. Нет в них и сравнительных таблиц, в которых бы правовые идеи Скорины иллюстрировались на примерах из текста Статута 1529 года. Все это, с одной стороны, отчасти снижает доказательную базу Иосифа Юхо в отношении его гипотезы, но с другой стороны, предоставляет возможность современным исследователям поработать в этом направлении.
Версию Иосифа Юхо поддержал и другой знаменитый белорусский ученый Адам Мальдис. Примерно год назад он говорил доктору исторических наук Сергею Абламейко о своих подозрениях, что Скорина мог принимать участие в работе над Статутом 1529 года вместе со своим боссом, виленским бискупом Яном. Высказал он также мнение, что заседания статутовой комиссии, якобы, происходили в Островце, где была одна из резиденций Гаштольда.
Зато вне всяких сомнений, что основные положения Статута 1529 года обсуждались с великим князем Сигизмундом Старым, потому что непосредственно затрагивали его права и обязанности. Так что мы точно можем назвать еще одно лицо, которое, безусловно, читало и согласовывало отдельные положения Статута 1529 года еще в проекте. Это не кто иной, как великий князь ВКЛ Сигизмунд Старый, монарх средневекового белорусского государства. В Статуте он брал на себя обязательства сохранять территориальную целостность страны, не допускать иностранцев на государственные должности ВКЛ, не давать им имений, не отнимать у местных феодалов должности и имущества без суда, придерживаться всех старых законов и обычаев. Сигизмунд также давал обещание, что не будет принуждения девушек к браку без их согласия.
Статут 1529 года был утвержден Сигизмундом Старым. По этому поводу была даже написана «Похвала», в которой он именовался «великим государем», так как превзошел всех иных великих князей и королей, ибо «научил нас справедливости чинити».



