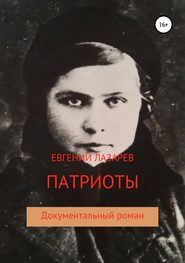 Полная версия
Полная версияПатриоты
Однажды пришёл и говорит: «Взял в лесу огород. Пойдёмте, посмотрите». Пришли. Он, удаляясь, попросил подождать. Слышу свист. Через минут 15-20 пришёл и говорит: «Когда я уйду совсем, вы будете приходить сюда, приносить мне новости».
– Какие? – спросила.
Он промолчал. Я всё поняла, согласилась. В это время я и Мизиренко З. И. временно работали в карточном отделе, выписывали и выдавали работающему населению города карточки на хлеб, а потом и на небольшое количество продуктов. Тем, кто карточек не получал, особенно семьям фронтовиков, карточки относили домой. Я вручала карточки Косоруковой с 2 детьми и престарелой матерью, жене Шевченко с 4 детьми и многим другим. Мизиренко З. И. тоже вручала карточки на хлеб. Так мы старались кормить хлебом жителей города.
К этому времени в городе уже появлялось много фронтовиков, попавших в плен к фашистам и сумевших вырваться из плена. Им необходимы были документы.
Я знала, что Мизиренко З. И. была связана с «Биржей труда» через Лизу Юрченко и возможность достать эти документы была использована. Лиза Юрченко приносила эти документы (паспорта немецкие), а Мизиренко З. И. Их вручала военнопленным (кому вручала, она скажет)» [19].
Из письменных воспоминаний Софьи Николаевны Донец (Шакало):
«Во время оккупации я никуда не выезжала и нигде не работала. Тогда угоняли на работы в Германию, мы прятались, спасались как только могли. Забирали меня в Германию и возле городской управы я познакомилась с Григорием Шакало, и решили мы с ним пожениться, чтоб не попасть в Германию. Они женатых как будто не брали. У меня ещё сестра Галя и брат Дмитрий и у нас двери не закрывались, каждый день нас гоняли. Муж мой тоже был на войне. Был ранен в Подгородном, попал домой, пошёл на жестекатальный завод работать, а там были наши пленные. Они воровали бензин, а я меняла его на макуху и сухари и передавала пленным.
Тогда муж через канализацию выпустил четверых человек пленных. Его очень побили, но он не признался. А те ребята обещали сообщить о своей судьбе, да так мы ничего от них и не получили. Судьба их осталась неизвестна.
Отец мой, Николай Пантелеймонович Донец, до начала войны работал в колхозе имени Сталина. Когда началась война, он был зачислен в списках подпольно-политических организаций. Однако он был мобилизован на войну. Когда их разбили, он вернулся домой и пошёл в колхоз, где выполнял своё поручение. Но его выдал Бобров Григорий. Нашли список и забрали его 20 января 1942 года. Папу моего, Шевченко, двух братьев Яшных, Терещенко посадили в мельнице на пятом этаже. Я все 3 дня ходила к тюрьме, передавала записки и сведения. Надо было принести документы немцам – то есть, характеристики. Я сходилась с Кутовым И. и Бутом А. Я встретила в это время Шуру Бута и спросила, как их величать этих фашистов – господа или паны? Он мне подсказал. Я написала и вечером собрала подписи, так как днём дома люди не жили, все уходили из дому. Пошла к старосте, он всё порвал. Второй раз сделала всё так же, время не ждёт, хотела помочь, но всё напрасно. Понесла я документы в гестапо, захожу в помещение, смотрю, стоит возле окна силуэт, я с улицы не увидела, так как морозы были, окна все заледеневшие. Он меня окликнул, «Соня». Я бросилась к нему, это был милиционер, Ильинский Василий, знакомый по Госбанку. Прошёл буквально миг, минута, но я успела обо всём с ним переговорить, его охраняли три собаки. Спрашиваю, чего вы тут, а он говорит, на допрос привели, а ты Соня чего, я документы принесла, моего папу забрало гестапо. Тут собаки залаяли на меня и немец вышел с другой комнаты, я ему сразу документы даю, он не понял, что я с Василием разговаривала, а папу в это время допрашивали. Он, вероятно, услышал меня, так как попросился выйти на улицу, в туалет. Его повели аж в самый конец двора, я его и увидела и стала звать. Звала, звала, а он не оглянулся. А меня с забора, на который я вылезла, когда папу звала, чужие люди сняли и в сторону отвели. И тут меня обошла судьба. Это было 23 января 1942 года.
А 24 января 1942 года пошла в гестапо сестра Галя. Отец мне написал записку, в которой он просил меня передать ему сумочку, простой карандаш и табак. Но мама ко всему этому ещё передала моему папе жареную рыбу и драный корж. Всё замотала, чтоб тёпленькое было и Галя всё это понесла. Когда она подошла к тюрьме, нашу передачу забрали полицаи, а саму Галю отвели в помещение и поставили лицом в тёмный угол, а папу и ещё много других вывели на улицу и повели в Педагогический институт, где в 10 часов их расстреляли. Тогда сестру Галю выпустили и дали ей записку, что пленные получили передачу. В записке стояли соответствующие четыре подписи. За эти годы где-то эта записочка потерялась» [20].
Работу Татьяны Григорьевны Соколовой в городской управе подробно описывает историк В. Билоус на страницах «Новомосковской правды».
«Вскоре в управе появились списки полицаев, списки награждённых за активную борьбу с партизанами, разные директивы и распоряжения, доносы провокаторов. С каждой этой бумаги была снята копия, которыми затем пользовались партизаны.
Однажды в управу зашёл один незнакомец и поинтересовался, как можно получить документы. Секретарь сказала, что нужно найти двух свидетелей, которые бы подтвердили, что вы не коммунист. Вскоре незнакомец вновь зашёл в управу с подтверждением свидетелей. Соколова узнала, что это Иван Самсонович Тяглый. Его она знала как партизанского руководителя. Документы были выданы. Через некоторое время Тяглый пришёл на квартиру к Соколовой и предложил помочь документами ихней организации, которая только что образовалась. Предложение было принято без промедления, потому как секретарша была уже готова к этому.
В городе начались облавы, аресты коммунистов. Татьяна Григорьевна первая сообщила об этом Тяглому. Как-то Соколову встретила на улице Юзефа Иосифовна Клейн и предупредила, что с ней хочет поговорить один мужчина. Пока не получила согласия Тяглого, секретарша отказывалась.
Холодным зимним вечером зашла она на квартиру к Клейн и там впервые увидела Григория Филипповича Павлова. Разговор шёл обо всём. На прощание начальник партизанского штаба предложил Соколовой держать связь с коммунистической подпольной организацией (имеется в виду новомосковский подпольный горком КП(б)У – п.а.). После этого вечера такие встречи происходили часто. На них присутствовали тт. Павлов, Соколова, Тяглый, Клейн. Чувствовалось, что Павлов частый гость на этой квартире, потому как вёл себя свободно, смело, как дома» [21].
Диверсия на жестекатальном заводе
О диверсии на жестекатальном заводе, на месте которого в годы Второй Мировой войны была устроена немецкая автомастерская, известно совсем немного. Тем не менее я решил написать об этом событии в отдельной главе, потому как эта диверсия занимает весомое место в деятельности молодёжной подпольной организации города Новомосковска. Операция прошла удачно, о чём свидетельствуют воспоминания участников этой диверсии, а также газетные статьи, написанные впоследствии.
Из письменных воспоминаний Владимира Ионовича Литвишкова:
«…Кроме того, была осуществлена большая диверсия на бывшем Новомосковском жестекатальном заводе, где немцы организовали ремонт боевой техники. Через плавни и Животиловку по ночам доставлялась взрывчатка, («макаронный порох»). В доставке и подготовительных работах участвовало и наше звено: Николай Белый, Володя Лисовиков и я.
В результате этой операции были подожжены авторемонтный цех и уничтожено несколько автомастерских и боевых машин (порядка 40 шт.)» [1].
В диверсии на жестекатальном заводе принимали участие не только члены молодёжного подполья. Значимую роль в ней сыграли также работники этого предприятия. Об их подвигах в своё время тоже было написано в газетах.
В. Киселёв, директор городского музея, 23 февраля 1987 года:
«…До сих пор остаются невыясненными имена патриотов-подпольщиков, совершивших самую крупную диверсию в Новомосковске на бывшем жестекатальном заводе – уничтожение немецкого полевого авторемонтного завода, располагавшегося в корпусе механического цеха. В результате проведённой диверсии были сожжены сорок четыре авторемонтные машины со станками и оборудованием. Враг понёс ощутимую потерю.
Не вызывает сомнения, что этот манёвр был подготовлен и осуществлён под руководством и с участием членов партийно-комсомольского подполья. Но кто является непосредственным исполнителем задуманного плана в канун очередной годовщины Октябрьской революции, мы не знаем. К этому следует добавить, что до сих пор не раскрыты и другие действия заводских групп патриотов, как то: сбор и отправка в лес к партизанам оружия, боеприпасов, продовольствия, а также саботаж попытки пуска фашистами листопрокатного цеха.
Наши следопытские нити ведут к одной из таких групп, а именно – к подразделению пожарной охраны. В предвоенные годы работал там заместителем начальника Дмитрий Иванович Бураков. Война застала его начальником городской пожарной охраны. По свидетельству очевидцев, вечером, после поджога механического цеха, Бураков вместе с неизвестным человеком, бывшим военнопленным, находился в семье заводского пожарного Якова Кроливца. Они наблюдали огненное зарево. Здесь Дмитрий Иванович переоделся и ушёл через плавни в направлении Новосёловки.
По доносу провокатора супруги Кроливцы были схвачены гестаповцами. Началось преследование Буракова. Допрос и пытки Кроливцов были жестокими, об этом известно из дошедшего до нас рассказа очевидца. Они были затравлены овчарками, но никого не выдали. Был также начат расстрел заложников, но после поимки раненого Буракова фашисты его прекратили.
Как ни близка истина, но выяснить до конца её пока не удалось и, к сожалению, мы не можем сегодня сказать твёрдо, кто был причастен к героическому подвигу, как проводилась диверсия. Хотелось бы с помощью знающих что-то: бывших заводчан-ветеранов получить ответ на волнующий вопрос: кто они, патриоты-герои? Ибо уничтоженные врагом физически, с крайней жестокостью, смелые и сильные сыны своего Отечества и народа продолжают жить в сердцах поколений как немеркнущие образцы несгибаемого мужества и нравственной высоты» [2].
Впоследствии историк и ветеран Великой Отечественной войны В. К. Киселёв нашёл несколько сведений о героях-заводчанах, решивших не стоять в стороне, а использовать все доступные способы борьбы в тылу, на месте работы, чтобы внести свой вклад в победу над угрозой всему устоявшемуся миропорядку – в победу над нацизмом.
В. К. Киселёв, ветеран Великой Отечественной войны, «По приказу сердца»:
«Алексей Петрович Петухов, старший инженер-электрик листопрокатного цеха. Не был призван по мобилизации (старший политрук) и не эвакуировался по болезни. Будучи немцами доставленным на завод для наладки работы электроподстанции, сделал всё для её окончательного вывода из строя. После этого патриот скрылся и направился к линии фронта. Гестаповским ищейкам удалось его схватить. Как комиссара, его сразу не убили. Подвергли изуверским пыткам. Ничего не добившись, отправили в концлагерь.
В подготовке и совершении диверсии в листопрокатном цехе вместе с А. П. Петуховым участвовал партизан-разведчик, работник листопрокатного цеха Максим (Пётр – п.а.) Михайлович Шевченко, погибший в 1942 году в бою при выходе партизан из Самарского леса, окружённого вражескими войсками.
Дмитрий Иванович Бураков, заместитель начальника пожарной охраны завода, организатор диверсии в механическом цехе завода, где фашисты устроили ремонт боевой техники. В результате диверсии были уничтожены и приведены в негодность путём поджога 42 авторемонтные мастерские. Гестаповцам удалось настигнуть скрывшегося Д. И. Буракова в селе Новосёловка, в перестрелке он был ранен и схвачен. После жестоких пыток, никого не выдав, был расстрелян в саду пединститута.
В совершении этой крупной диверсии в ноябре 1941 года, участвовал ещё один работник завода – начальник транспортного цеха Владимир Иванович Хмель, 1914 года рождения.
Григорий Фёдорович Чалый, работник завода, проживал по улице Советской, напротив бывшей мельницы Уманского, где фашисты устроили тюрьму. В подвале дома Чалого был установлен радиоприёмник, слушались сводки Совинформбюро о событиях на фронтах, писались и распространялись листовки.
Впоследствии, когда листовки начали изготавливаться на стеклографе в доме подпольщика Алексея Цокура по улице Рабочей, 10, Г. Ф. Чалый обеспечивал краской печатание листовок.
Пётр Иванов из железнодорожного цеха участвовал в освобождении военнопленных, работавших на заводе. В подвале его дома по улице Фрунзе, освобождённые военнопленные ожидали получения от подпольщиков города немецкие паспорта, а затем направлялись к линии фронта или в партизанский отряд Медведева.
Жена, Домна, выполняла роль связной с подпольщиками города, занималась доставкой паспортов. Арестовывалась, но за бездоказательностью была освобождена» [3].
Из письменных воспоминаний Александры Константиновны Головко:
«Помню, что-то ребята записывают, спорят, советуются. Хмель пришёл (я с ним на заводе работала) в подвал. Увидела бидончики с горючим, мазутом, накрытые досками. Готовятся к операции. Митя сказал: «Мама, дай ключ от подвала». Вечером пришли Зина, Женя и другие товарищи. Они облили мазутом и спалили ремонтный цех на жестекатальном заводе, уничтожив 44 автомашины и оборудование. В Орловщине, в доме отдыха перебили охрану и спалили 8 машин. Это было поручено подпольным комитетом комсомола Павлу Бондаренко, у него была группа из 5 или 6 человек. Он сам жил в Орловщине. Никита и другие товарищи связали охрану (она была из пленных) и выпустили группу пленных на жестекатальном заводе» [4].
Над подпольной организацией нависает угроза
После успешно проведённой диверсии на жестекатальном заводе над антифашистской подпольной организацией нависает угроза. Не из-за диверсии на предприятии, а из-за поражения нацистов под Москвой. После этого события оккупационная власть предприняла следующий шаг – угонять трудоспособную молодёжь, проживающую на оккупированных территориях, на принудительные работы в Германию.
Из письменных воспоминаний Владимира Ионовича Литвишкова:
«К весне 1942 г. была установлена связь с подпольными организациями Синельниково, Павлограда и Днепропетровска.
Кроме того, мы собирали оружие, которое было оставлено войсковыми частями, которые переправляли при содействии Павла Бондаренко, возглавлявшего в с. Орловщина подпольную группу, в Орловщанский лес.
С Бондаренко мы встречались несколько раз на квартире у Мирошника.
Вскоре над нашей организацией нависла угроза. Фашисты начали массовый угон молодёжи на каторжные работы в Германию.
Благодаря содействию, оказанному медицинскими работниками, подполье удалось спасти. Для анализа крови подставлялись лица, болеющие малярией. В качестве таких лиц выступали: Никита Головко, я, наши мамы и др. Это давало возможность обеспечить подпольщиков таким диагнозом. Фашисты очень боялись завоза малярии в Германию и поэтому прошедших такой медицинский анализ удалось спасти от угона в рабство. Так были спасены несколько членов подпольной комсомольской организации.
В этот период все силы нашей организации были брошены для проведения разъяснительной работы среди молодёжи, которую под угрозой расстрела сгоняли и свозили из сёл прислужники – полицаи с жёлто-голубыми повязками на рукаве к зданию, так называемой, «биржи труда». Последняя размещалась возле парка (сейчас парк им. Сучкова) в бывшем здании детского садика. Специально подготовленные листовки с призывом не ехать в Германию распространялись среди молодёжи. Кроме того, для срыва назначенного выезда по сёлам расклеивались объявления, якобы за подписью ОРСТ коменданта (местной комендатуры) с другой датой выезда. Эшелоны уходили полупустыми. Гитлеровцы нервничали, зверели и устраивали облавы по городу, на базарах. Наша агитация делала своё дело. Молодёжь уклонялась от мобилизации, уходила в леса, скрывалась в других сёлах, бежала с эшелонов. В конце 1942 г. в период битвы под Сталинградом, наша подпольная организация сообщала населению города при помощи листовок и устной информации через доверенных лиц о событиях на фронте. В честь победы на Волге была выпущена листовка, в которой карикатурно был нарисован с шишками на лице гитлеровский вояка с разорванным пополам баяном в руках и под ним гласила подпись «От Дона до дому»» [1].
Из письменных воспоминаний Марии Васильевны Кобзарь (15.04.1985):
«Я знала Ивана Васильевича Кутового, так как он жил недалеко от меня, на Вороновке, ещё до войны. А когда началась война и город Новомосковск был оккупирован немецко-фашистскими войсками, Кутовой И. В. работал на бирже труда. Однажды меня арестовала полиция, избила и под конвоем отправила на биржу труда для регистрации на каторжные работы в Германию. Я попала к И. В. Кутовому, он меня хорошо знал, у нас уже были встречи по заданию подпольного комсомольского комитета, Кутовой снабжал меня писчей бумагой для создания листовок. И. В. Кутовой записал меня в карточку и послал к Е. В. Бутенко, которая дала мне справку о том, что я болела туберкулёзом. И. В. Кутовой давал задание писать листовки с призывом не менять советские паспорта на немецкие и распространять эти листовки среди населения» [2].
А. Б. Джусов, «Новомосковская правда», «В плен не сдался».
«Жена Алексея Цокура Екатерина была членом комиссии, которая отбирала работоспособную молодёжь в Германию, и пользовалась этим, выполняя поручение подполья. Тем, кто не желал ехать, она и врач М. Н. Пиганова предоставляла справки о заболеваниях малярией или о перенесённом туберкулёзе. Для подтверждения диагноза пользовались мазками крови, отобранными у хронически больных малярией Т. Г. Соколовой по её согласию» [3].
Рабочий корреспондент газеты «Новомосковская правда» Браславский, статья «Врач Бутенко».
«После поражения под Москвой фашисты начали в городе кампанию насильственного набора рабочей силы для отправления в Германию. Создали специальную медкомиссию при городской управе по выявлению физически здорового, годного для непосильного труда населения. Своих докторов не хватало, поэтому включили в состав медкомиссии также и местных. По заданию подполья работать в ней согласилась и врач Бутенко.
Она быстро вошла в доверие захватчиков. И гитлеровцы не могли и предположить, что эта красивая, хрупкая женщина учила молодёжь, как нужно симулировать болезни, предоставляла справки о болезнях и нетрудоспособности. Приходилось реагировать на все коварные действия врага. На «рост» числа «туберкулёзников» гитлеровцы ответили жестоким способом: решили истреблять их физически. Но это им не удалось. Бывшие «туберкулёзники» уже «болели» малярией» [4].
Из письменных воспоминаний Колесника Николая Тарасовича о Зине Белой:
«В августе 1942 я вернулся домой в г. Новомосковск с Уманских лагерей военнопленных и мне пришлось через её брата Николая повстречаться с Зиной, которая помогла мне достать на моё имя немецкий паспорт (Аусвайс). После нескольких бесед я ещё раз убедился в силе её патриотизма и в её таланте организатора. От Зины это передавалось всем, кто её знал, она поддерживала у всех этот оптимистический дух. Зина в своих листовках обращалась к людям: «Верьте в силу Советской армии, боритесь в тылу врага, не будет пощады коричневой чуме». Зина красиво, очень красиво писала. На квартире Н. Головко слушали последние известия Совинформбюро. Зина говорила, что за одну ночь писала до 20 листовок, а мы в разных местах города расклеивали. Затем радиоприёмник был перенесён на переулок Подпольный. Наверное это был подвал родственников Жени Шуть. Зина возглавляла группу связных, училась в сельхозшколе, которая находилась на ул. Горького. В саду колхоза «Заря» (Решкут) находился склад советского оружия и боеприпасов, которые охранялись полицией. Зина знала, когда дежурят «свои» люди – Яша Тищенко (Советская, 100) и Федя Корягин – они готовили и передавали необходимое оружие и боеприпасы, которое переправлялось партизанам. Местами хранения оружия были – ветлечебница и мыловарка (она же салотопня, где работал дед Пернов – п.а.). Зина имела связь с подпольщиками с. Хащевое, упоминалась фамилия или кличка «Оглы», со станцией Новомосковск через переводчицу девушка по фамилии Сытник проживала по ул. Комсомольская. Сытник сообщала когда и с каким грузом идут ж/д эшелоны, она организовывала инструмент – ломик для выдёргивания костылей, домкрат и др. Николай, Черняк, Батурин, я и Зина за вторым мостиком в районе Шпалзавода, разводили рельсы, после этого закладывали тол. На железнодорожной станции всегда дежурили казаки из РОА» [5].
Бурный февраль 43-го
В конце февраля 1943 года силами 35-й части Красной Армии и участниками подполья была предпринята попытка освободить город. О том как это происходило, рассказывают очевидцы этих событий.
Из письменных воспоминаний Владимира Ионовича Литвишкова:
«В феврале 1943 г. при подходе частей Красной Армии к городу Новомосковску по приказу подпольного комитета вся организация была приведена в боевую готовность. Из тайников, расположенных на кладбище Транзитки (сейчас там построена фабрика), было извлечено оружие.
Член подпольного комитета Е. Мирошник принял на себя командование боевыми группами, расположенными на Вороновке и Транзитке и, по сигналу, полученному от Владимира Доленко, выслал навстречу нашим войскам связных. Последние должны были провести передовые отряды более безопасными дорогами. Обстановка в городе была тяжёлой.
Фашисты арестовывали мужское население и вывозили за Днепр. Приходилось скрываться и действовать очень осторожно. Честь встретить Красную Армию от нашей группы выпала Николаю Колеснику. Задание было выполнено. Передовые части наших войск на рассвете февральского зимнего утра овладели шпалопропиточным заводом и железнодорожной станцией Новомосковска. Один из отрядов в количестве 15 человек, вооружённых автоматами, лёгким пулемётом и противотанковым ружьём Николай привёл к нам на Транзитку. Отсюда через кладбище мы вместе с отрядом двинулись к центру города. Нам необходимо было пересечь шоссейную дорогу, связывающую Новомосковск с Днепропетровском и выйти на Кущёвку (жилой массив, прилегающий к центру города). На дворе стало светлее. В это время подошли немецкие танки и начали вести обстрел домов нашего посёлка, считая, что в них засели партизаны.
К вечеру подошли в большом количестве немецкие войска. Бой длился до ночи. Мы помогали отряду как могли. Малочисленный отряд наших войск мужественно оборонял вокзал и шпалопропиточный завод, но вынужден был прорвать окружение и отступить. Мы очень переживали горечь неудачи. Но мы продолжали борьбу (Лисовиков, Белый, Доленко, Колесник, его молодые ребята, и я). помогали переправлять красноармейцев через р. Самару на Вороновке в Орловщанский лес. Беспокоясь о дальнейшей судьбе подполья, мы передали Мирошнику, что прекращаем встречи и никуда не показываемся. Дома мне пришлось отсиживаться вместе с отцом в яме, которую выкопали на огороде раньше.
Мучительно тянулись дни. Наконец появилась Зина Белая и сообщила, что Никита Головко возвратился из-за Днепра, куда он был вывезен, как и многие заложники (он был инвалид детства). Она сообщила, что обстановка уточняется и что из наших пока никто не арестован, только кое-кто ушёл с отрядами Красной Армии.
К концу марта 1943 г. мы начали пропаганду среди населения города, 1943 г. был не 1941 годом и работать стало легче. Отзвуки Сталинградской победы и февральские события в нашем городе вселили веру в победу нашей Красной Армии среди большой части населения города Новомосковска» [1].
О февральских событиях сорок третьего года в городе Новомосковске вспоминает также Колесник Николай Тарасович. Прежде чем он оказался в городе, ему довелось пройти, буквально, через все круги ада. Война закинула совсем ещё юного Николая в самое пекло. Он успел побывать в Сталинградской битве и в лагере под Уманью. Вот его история, записанная внуком Николая Тарасовича Максимом Столяровым, обработанная Валерием Потаповым и опубликованная на сайте http://army.lv/ru.
«Я родился 19 декабря 1922 года на Украине в селе Степановка Магдалиновского района Днепропетровской области в обычной крестьянской семье. Сызмальства работал на различных сельхозработах. Помню, оставляли меня на неделю одного стеречь баштаны. Оттуда даже собака сбежала, а я смог. Из одежды на мне была только крашеная бузиной рубаха и больше ничего: первые штаны мне сшили только тогда, когда я пошёл в школу. Питался я там арбузами и прочим подножным кормом, что впоследствии очень помогло мне выжить. [Его брат – Владимир Гаврилович Колесник, танкист, попал на войну против Японии в 1945 году, ранен снайпером за несколько часов до первого боя в котором сгорели его танк и экипаж – рассказывает, что Николай Тарасович знал все съедобные корешки и травы, мог босиком ходить по болотному очерету и находить в болоте какие-то луковички, ловил крыс, рыбу какими-то немыслимыми подручными средствами – Максим С.]

