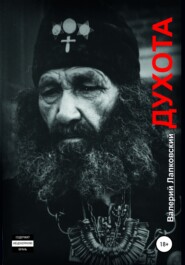 Полная версия
Полная версияДухота
Я гордился командирскими шевронами, мечтал стать морским офицером, покорителем коварных морей, как тот красавец, который ухаживал за мамой и подарил мне срезанные с его пришедшего в негодность кителя знаки различия капитана второго ранга.
По дороге в школу проник в храм и, замирая перед незнакомым мне миром, застыл у дверей, забыв про уроки, не смея двинуться вглубь… Огромные картины, красные и синие… Я не знал, что это иконы… Именно в тот день впервые в жизни увидел Христа…, почуял запах ладана, въевшегося в стены, одежду священника, тихо беседующего в углу с… Я понимал, это священник, потому что, встретив его в рясе на улице, хватался с другими несмышлёнышами за что-нибудь чёрное, за любой чёрный предмет, чтобы избежать неудачи, якобы неизбежной от свидания с попом.
И как часто позже силился восстановить впечатление от первого попадания в тёплый православный храм! Это жгучее, утраченное до слёз, чувство страха и восторга, но никогда оно не возвращалось. Были иные взлёты, непередаваемые мгновения на литургии у престола, но потрясение, испытанное в раннем детстве, не приходило вновь, лишь дальним эхом повторив себя через много лет, когда ещё совсем молокососом (ну едва стукнуло тридцать лет), вот эту руку, убранную в серебряный чехол с драгоценными камнями, покоившуюся в укромном куту Свято-Троице-Сергиевой лавры, эту руку, что коснулась на Крещении во Иордани головы Спаса, с трепетом в сердце поцеловал, молясь удостоить меня сана диакона, забыв юную надежду стать морским волком.
XXXIV
– Лида! – говорю матери за обедом. – Ко мне опять прицепилась «детская болезнь левизны в коммунизме»: сколачиваю общину, чтобы открыть собор Иоанна Предтечи…
– Да ты ещё в школе мечтал стать часовым у этой церкви!
– Ты лучше припомни, что и Чичиков был членом комиссии по строительству храма Христа Спасителя в Москве!.. Богодралы наспех реставрируют здание, хотят сделать историко-краеведческий музей… До революции, представляешь, в соборе хранили греческую рукопись книги «Апостол»! Кажется, одиннадцатый век, если не заблуждаются археологи. Их исследование издано в Санкт-Петербурге в 1886-ом году, том первый. Проверял в Салтыковке, когда недавно ездил. А теперь здесь монтируют сортир!
– Где «здесь»?
– Да в храме, как не понимаешь?! Захожу на днях в собор… Ба! Новый унитаз, новая узкая дверь!.. Рабочие в один голос: «Мы-то что? Делаем как прикажут… Скажут – уберём… Но вообще, конечно, срам, бесстыдство… Можешь? Помоги… Такое выдумали!.. Нужник даже в план реставрации вмазан, хотя испокон веков на Руси сральников в церквях не было!»
Я – опрометью в отдел горисполкома к директору историко-культурного заповедника, доктору наук Элеоноре Яковлевне Умрихиной (разрезы по бокам юбки щелями жабр акулы).
– Это не отхожее место. Это санитарно-гигиенический узел для работников будущего паноптикума! – аннулирует мой протест туалетная леди, поигрывая авторучкой, наподобие лопатки, которую по рекомендации Яхве имел каждый еврей в пустыне для зарывания в песок своих экскрементов.
– Она права, – замечает Лида. – Вон, ты же сам говорил, в Москве, на углу Красной площади, где хорошел Казанский собор, после сноса устроили общественный туалет. И ничего!
– Двинул телеграмму генеральному прокурору с жалобой на Умриху… Включаю тебя в список общины. Не боишься?
– Чего бояться? «Не верь, не бойся, не проси» – кто этому меня со слов Солженицына учил? Не ты ли?
В окно вонзается визг соседки:
– Театр горит! Пожарная машина, шланг!
Мать бросает ложку:
– Это моя жизнь горит!
Пальто на плечи и – в дверь.
Через десять минут возвращается.
Отдышавшись, облегчённо:
– Учебная тревога…
– Эпизод из жизни великой актрисы!
– Ты бы не иронизировал, а лучше бы сходил на почту, заказное письмо из собеса.
– Уже получил, не расстраивайся.
– Почему?
– Тебе не полагается.
– Что «не полагается»?
– Дотация?
– Почему?
– Пособие выдают только тем, у кого пенсия 50 рублей. У тебя она 50 рублей 17 копеек. На 17 копеек больше нормы. Поэтому уймись: ничего не получишь!.. Марина Цветаева получала за свой труд 60 рублей, что хватало ей на три фунта картофеля и на свечку у Иверской (за окончание строя, при котором ей так щедро платили), а ты, Лида, получала машинисткой 75 рублей и всё недовольна!
– Кто, кроме тебя и меня, будет в общине?
– Надеюсь собрать человек двадцать семь… Для официальной регистрации прихода требуют двадцать лиц, но, чтобы исключить неизбежные придирки, соберём людей побольше… Витя Чамовских, Фастович, Асеев, Юрка Бирюк…
– Я могу позвать подругу с улицы Циолковского, ты её знаешь, была когда-то первая в СССР женщина-водолаз.
– Давай! Есть на примете ещё несколько пенсионеров…
– Нет, не вернут… Рядом с собором памятник «Идите топиться!»: Ленин с рукой-указателем, простёртой к морю… Да на колокольне собора, болтают, взяли вчера татарина с пулемётом (пропало, мол, что-то из комнаты для оружия в милиции)… Хотел угостить свинцом седьмого ноября правителей на трибуне перед памятником… Нет, не отдадут.
– Отдадут, вот увидишь! До краха «империи зла», где Священники Сняли Свои Рясы, рукой подать.
XXXV
Я настолько уверен, что Господь железным жезлом перебьёт глиняные горшки, что в самом начале баталии набрасываю на бумагу проповедь «На открытие храма», сродни той, какую мог бы сочинить и при царе Горохе на учреждение в нашей волости института благородных девиц.
Кто же дерзнул примкнуть ко мне, из кого моя гвардия?
Где взять талантливых, стойких, культурных, работоспособных ребят в Тьмутаракани? Когда скульптору пятьсот лет назад не хватало металла для отливки статуи, художник бросал в плавильную печь всё, что попадало под руку: подкову, кастрюлю, кочергу…
Моя ватага – примитивно маленькая секта первого века. Здесь культ бедности, нет ни денег в банке, как у любого монастыря на Афоне (или у Патриарха всея Руси), ни имущества, ни помещения под храм. Она агрессивна, со всех сторон – враги. Но за нею – будущее!
Уже освоено железо, внедряется употребление топора, меча, сошника. Кочую по квартирам с речью о пользе оседлого скотоводства, приумножения пастбищ: бомблю от имени непризнанной ячейки просьбами, жалобами, угрозами горисполком, прокуратуру, обком, Совет по делам религий, Священный Синод, Фонд культуры, главу государства, заграницу (оттуда в органы власти летят протесты стаями голодной саранчи величиной с апокалиптического коня).
Градоначальство ещё интенсивнее реставрирует собор… Настилают деревянный пол… Купол внутри обтягивают шёлком с рисунком райских растений… Появились ранее отсутствующие царские врата… Стою и вижу, слышу, как под пеплом алтаря шипит стожалыми змеями приёмная комиссия…
Я проиграл!.. Прячусь от стыда за ближайшую колонну.
Ффу!.. Дурацкий сон!
XXXVI
Благополучно пережив «1984 год» местная газетка «Победа» (в антиутопии Оруэлла бренд «Победа» – паршивый джин, суррогатные сигареты, фальшивый кофе, жилой дом с уборными и спальными сплетнями) натравливает и регулярно, минимум дважды в неделю, спускает со своих цепных страниц на меня и моих друзей свору разгневанных продавщиц, слесарей, ветеранов партии и труда, рыбаков, комсомольцев, металлургов, домохозяек, гинекологов, педагогов, сторожей, возмущённых, ущемлённых мещан:
– Как посмел нас обозвать в печати «недобитыми сталинистами»?! Дулю ему, а не собор!
Лида, пробежав глазами свежий номер городского официоза и не найдя в нём очередной выпад против её сыночка, расстраивается не менее, чем когда узнала: на том свете не выходят замуж, не заводят не только романов, даже деревенского флирта.
Едва осень срезает жёлтые листья с деревьев, как золотые пуговицы с мундира Сталина перед погребением у кремлёвской стены (немцы, опуская тело советского генерала в могилу, даже золотые запонки не сняли с его рубашки), я, исполняя обещание «встретиться на новых баррикадах», которое дал оппонентам, когда вышибали из вуза, будто кулака из колхоза, двигаю свой десантно-штурмовой отряд крестным ходом с чёрным транспарантом «Памяти жертв красного террора» через весь город – в канун праздника Октябрьской революции – на окраину, ко рву расстрела гимназистов, офицеров, казаков, интеллигентов, людей, просто недовольных властью совета рабочих и собачьих депутатов.
Местные телевизионщики снимают на плёнку историческое событие, происходящее впервые. Компартия глазами раненой лани таращится с тротуара на разрешённое ратушей безобразие: шествие мракобесов под самодельными хоругвями с безбородым попом в потрёпанной ризе, с эскортом милиции и взводом солдат (кто-то подметнул нам письмецо с угрозой показать, где раки зимуют, если не отменим скандальный парад!).
– Три года назад, – возвышаю в столице Крыма глас на конференции общества «Мемориал», – в нашем городе назло всем чертям возникла православная группа, настаивая вернуть верующим поруганный лиховщиной древнейший храм.
Сталинизм нынче – нечто вроде четвёртого блока взорванной атомной электростанции в Чернобыле. Он погребён, но дышит в бетонном саркофаге, и время от времени делает смертоносные выбросы в атмосферу, несмотря на официальные заверения, будто угроза нашей жизни миновала. Новое политическое мышление призывает страну к пересмотру прошлого, исправлению трагических ошибок.
Как даёт о себе знать объявленная партией перемена мышления, казённая метанойя?
Учредителей общины постоянно вызывают на промывку мозгов в исполкомы, к администрации по месту работы, требуя отказа от затеи открыть старинную церковь. Все «коммунизмовы затоны» от юга до Москвы топят наше ходатайство, мотивируя тем, что пульсация двух небольших церквиц полностью удовлетворяет религиозные запросы двухсоттысячного населения.
На самом же деле люди вынуждены в крупные праздники мокнуть под открытым небом, стынуть в мороз и жару у дверей и стен; молитвенная клетушка, по сути: часовни, не вмещают даже трети прихожан!
Пресса обрушила на нас трафаретное обвинение в «преследовании грязных политических целей», «предательстве Родины», «демагогии», «корысти». «Двадцатка» подала на газету «Победа» иск в нарсуд по статье 7 Основ гражданского законодательства, в защиту чести и достоинства.
Небывалое в истории судебное разбирательство дела незарегистрированной православной общины, выступившей против «коллективного организатора и пропагандиста», продолжалось после многочисленных отсрочек три дня и финишировало полным непризнанием правоты истца. Однако кассация заставила суд более высокой инстанции частично признать справедливость претензий верующих и обязать «голос» горкома партии извиниться, опубликовав опровержение. До сих пор, вопреки резолюции XIX партконференции, это не выполнено.
Тогда «двадцатка» уведомила на бумаге все командные высоты о намерении организовать голодовку у стен собора и начала её. После первого дня этой акции чинуши внезапно зарегистрировали приход, но категорически отказались «репатриировать» храм, где вожделеют оборудовать музей для краеведческих достопримечательностей.
Идентичная картина и в других городах.
В Московской Патриархии лишь недавно при Священном Синоде, заикаясь, засвербила комиссия по расследованию преступлений сталинщины. Вне её внимания остаются тысячи изувеченных храмов, находящихся по-прежнему в рабстве у государства. Нашу апелляцию Патриархия не замечает! Отмахивается от нас, как от надоедливых мух.
Каждый храм, не возвращённый православной пастве – новомученик, жертва Большого Террора. И тот, кто препятствует возврату дома Божия под крыло Матери Церкви, тот – апологет cталинщины!
XXXVII
Датируемое эпохой ранней бронзы ужасное отображение поведения гнусного попа или поучительное пиршество в доме одной вдовы во время Великого поста всплыло наверх, когда разгорелась тяжба за храм. Епархиальные лахудры, духовенство, держа до той поры сдержанно враждебный нейтралитет, принялись, закусывая псалом салом, теперь так улюлюкать, что…
Что, собственно?
Да ничего.
Сначала ничто не предвещало скандала.
Трещали, выпивая и хрустя огурцами, за столом между прочим, что среди эсеров, как и среди большевиков, хватало евреев… Дора Бриллиант, Гершуни, Гоц, Азеф, Лурье носились с мечтой убить царя и несколько раз готовили покушение… С какого перепугу контрреволюцию, переворот 1917-го года именуют Великой Русской Революцией? Русская революция? Против русского императора и русской Церкви?!
– Ты ведь интересовался национальным вопросом и расплющил эту тему в статеечке «Что значит быть евреем?».
– Кто сказал?
– Да ты сам не скрывал!
– Ну…
– Вот её зачин: молодой Карл Маркс видел в капиталистическом мире цепи, прикрытые фальшивыми цветами. Роль бумажных роз, маскирующих отчуждение человека от самого себя, играла, по его разумению, религия, будь то иудаизм или христианство.
– Далее.
– Философ подумал и решил протянуть руку за живым цветком.
– Это я написал?
– Нет, твой дядя… Осенью 1843 г. Карл публикует статью «К еврейскому вопросу». Указанная работа, по общепринятому заключению комментаторов, знаменует окончательный переход Маркса от идеализма к материализму…
– И коммунизму!
– Спустя сорок лет, в 1884 г., Владимир Соловьёв выступил с шедевром «Еврейство и Христианский вопрос». Это острая полемика с решением религиозной и еврейской проблематики у Маркса, хотя нет сенсационных свидетельств, что русский мыслитель избрал мишенью основателя теории научного социализма и читал скабрезное эссе Маркса, четвертующее соплеменников.
Несмотря на расхождения в итогах исследований, оголённый концы которых при соприкосновении производят электрические искры, у Маркса и Соловьёва («несмотря на некоторые несходства Иван Иванович, так и Иван Никифорович, прекрасные люди») – есть одинаковые оценки в характеристике социально-психологического облика еврея как такового (в прошлом и настоящем).
– И?
– Оба констатируют: евреи – жрецы Мамоны!
– Вспомнила бабушка первый поцелуй…
– Поэтому, говорит один любомудр, если я вижу перед собой еврея, что я должен и могу ожидать от него здесь и сейчас или завтра в другом месте?
– Хватит, надоело.
– Этюд о пролетарском поэте, написанный тобой в двадцать лет, прозагорал в столе тридцать лет, пока не обнаружил себя в психиатрическом журнале в Москве! Какой срок понадобится для презентации твоей «диссертации» о евреях? Когда появится?
– Когда барон Врангель снимет табу на публикацию в Крыму «Протоколов сионских мудрецов»!
– И евреи Землячка и Бела Кун, чьи фамилии украшают улицы полуострова, покаются вкупе с Дзержинским, в массовых расстрелах белых офицеров, которые, как барашки, сдались в плен?
Хозяйка застолья, богомолка, преуспевшая в страхе Божием, готовая подать гостям на жаркое жар-птицу, кабы не Великий пост, провещала:
– Многие уважают евреев и нынешние обряды их считают священными, и правители наши веселятся на их праздниках. Однако у Иоанна Златоуста это заблуждение в корне исторгнуто,– сама надысь читала! Иудеи молвят, что они поклоняются Богу, но Сын Божий отрицает это!
– Если шудра услышит Веду, пусть зальют ему уши расплавленным воском или смолой, – прошипела изучающая шесть систем брахманизма горбунья с обручальным кольцом на когтистом пальце. – Если он твердит священные тексты, пусть вырежут ему язык; если хранит их в памяти, да рассекут ему тело надвое!
– Батюшка, а жена у тебя еврейка? Сам ты не иудей? Говорят, обрезан! У тебя в хате сувенир из Иерусалима – кошерный торшер: менора…
И тогда батюшка (памятуя, хоть и был весьма обуян Бахусом, что аксиома не доказуется, а показуется, как истина в книгах великих богословов Флоренского и Булгакова) решил дать раблезианское понимание надоедливого вопроса…
– Сделал это, подражая пророку Исайе, который снял с себя вретище и три года бродил нагишом?
– Или, как праведный Серапион, который, повествует «Лавсаик», не только сам слонялся без одежды, почитая себя умершим для мира, но и побуждал других к тому же, смиряя, например, гордыню девственницы: двадцать пять лет сидела в келье, никуда не показываясь, но без трусов и бюстгальтера не хотела прогуляться по городу, сколько Серапион её не уламывал?
– А зачем Дон-Кихот скинул штаны и нимало не медля дважды перекувырнулся в воздухе, выставив при этом напоказ такие вещи?..
– Осёл всю жизнь щеголяет без одежды, но от этого не становится йогом, – подпряглась горбунья.
– Погодите, – сказала хозяйка, – вот у меня сборничек вопросов святого Максима Исповедника, я заложила закладку, слушайте: «…А делатели виноградов на Кармиле суть помыслы, пребывающие на высоте созерцания, возделывающие разум, добивающиеся его совершенного бесстрастия и удаляющие от него, словно крайнюю плоть на детородном члене души, всякие чувственные ощущения, они умозрительным образом производят обрезанием ума, совершенно освобождаясь от привязанности к материальным вещам…»
– Так ты, батюшка, обрезан или нет?
И тут гости онемели, а горбунья… увидела не попа, а бога Шиву, в чём мать родила, с каскадом черепов на шее, всего в пепле, с торчащим фаллосом – олицетворением духовного мужества аскета!
Батюшка, чуя, что в нём проснулась индоевропейская реакция против семитического духа, вытащил и показал…, как на собрании в университете (когда гнали вон) вместо комсомольского билета Новый Завет; и хотя продемонстрировал всего-навсего тот же самый дар благодати, что, задрав тунику, рекламирует «Сатирикон» Петрония, собутыльники вместо того, чтобы оседлать восторг от столь весомого арийского аргумента, не только распустили по городу пикантные подробности его омерзительной выходки, но и реанимировали их теперь, превратив скандалиста в доминантного самца маленькой группы.
– Так что же он всё-таки натворил?
– Вынул и показал… («текст утрачен»).
– Что показал?
– «Детородный член души», абордажный тесак!
XXXVIII
Над страной раскачивались юбилейные колокола, бурлило Тысячелетие Крещения Руси.
Дьявол прятался за икону. Глава партии и государства понимающе улыбался на приёме в Кремле застенчивому Патриарху.
Пресса нахлобучила монашеский куколь на заголовки статей. Зарубежные гости объедали умиление на официальных торжествах, а я… по дороге в аптеку за валидолом для матери решил на минуту заскочить в общество «Знание», чтобы дать по зубам Мордикову, начинающему лектору по научному атеизму, пуще прочих выступающему против меня в «Победе».
Заскочил и – хлоп! Нарвался на его шефа Пузяшкина.
– Здравствуйте, Пузяшкин!
– А, это ты?.. Заходи, заходи… Садись, поговорим.
И трясущимися от старости руками мятую сигарету из пачки в рот. На столе немытый стакан с прилипшими крупинками чая… и прочие литературные трюизмы, встречаемые у любого классика в рассказе о каком-нибудь чухонце.
– Да я не к вам, я к Мордикову.
– Нет, постой… постой, раз пришёл – давай побеседуем… Мордикова нет… Садись, садись.
– Поздравляю, вашу дочь избрали секретарём горкома…
– Да… Меня это не радует, одни хлопоты, – притворяется идеологический хрыч, а у самого на скулах плохо скрываемое ликование: мы тебя, блядин сын, не то что в бараний рог, в три дуги теперь согнём! – Ты вот хочешь церковь открыть, может даже в архиереи метишь… Я ведь тоже мечтал стать адмиралом… – рассусоливает Пузяшкин, как подшмаленный бес. – А у тебя вон даже бороды нет!
И чего его скребёт отсутствие на моём лице вторичных половых признаков? Борода исчезла с моей физиономии, как буква «ять» из дореволюционной грамматики.
Триста лет назад в Европе уважаемые бюргеры усаживались за круглый стол, поместив в центр столешницы крупную вошь. В чью выпяченную бородищу заползало насекомое, того и назначали бургомистром.
Триста лет тому не только Европа, вся поповская Русь выскабливала тонзуру. Отчего выпускники духовных школ, особливо монахи, чая достичь ангельского жития, прежде всего отращивают куафюру под носом (кто видел ангела с бородой?), но не выбривают нынче вопреки традиции гуменце, свиной пятачок на затылке? Подлинный смысл тонзуры ими давно утрачен, впрочем, как и мной.
– Охота тебе нервы портить? Что ты перья поднимаешь? Всякая власть от Бога! – поучает Пузяшкин.
Не успеваю открыть рта в ответ, как в узкий кабинет без стука в дверь вламываются зам. редактора «Победы» Щерба под ручку с Малиной, старшим офицером госбезопасности; пожаловали к референту общества «Знание» для обсуждения письма запорожских казаков турецкому султану.
Щерба держит у себя в сарае, в клетке для канарейки, бюстик Лермонтова, которому, как мне, в университете указали на дверь.
Что касается Малины, то месяц назад он не обинуясь доказывал мне, что КГБ ну никакого отношения к травле нашей фаланги в городской прессе не имеет!
Ни Щерба, ни Малина не чаяли меня тут встретить. Я впервые попал к Пузяшкину; гости слегка оторопели. Референт, впрочем, быстро спохватился, замахал на них руками, мол, занят, загляните позже. Те молча попятились за дверь.
Когда вошёл в коридор, их след простыл.
А газета по-прежнему не спускает с меня глаз с назойливостью старой девы, что спозаранку, чуть-чуть отодвинув занавеску, разглядывает некачественно стерилизованный хулиганьём гениталий античного героя, чья атлетическая фигура выставлена для украшения чахоточного скверика под её окном.
К нападкам «Победы» присоединился рачитель Царства Божия, недовольный самочинием какого-то пришей кобыле хвост сборища, посмевшего без благословения консистории хлопотать об открытии храма.
Крымский архипастырь Василий выступил в роли невоспитанного Приапа, который, пукнув, напугал толпу колдуний, занимавшихся по соседству своим промыслом. Однако в отличие от ведьм, давших дёру со всех ног, моя команда, изобличённая епископом в том, что один из нас – «кудесник», не только не сдрейфила, но сочтя себя оскорблённой ввиду порчи воздуха воззваниями Его Преосвященства, расклеенными по всем подворотням, привычно, как на «Победу», подала на отравителя атмосферы иск в нарсуд.
Спасти престиж архиерея, публично заявившего, что он против тех, кто шельмует коммунистов (бурные, долго не смолкающие, переходящие в овацию аплодисменты в обкоме), что душа человека весит семь граммов (японские учёные взвесили тело до и после смерти, и материальная разница превратилась в нематериальную субстанцию!), и встрявшего в прю с нашей дружиной, можно было лишь поспешно сняв его с кафедры и запрятав подальше, в другую область, куда вряд ли дотянется карающая рука захолустного «волхва».
Так и поступили.
Сколько, впрочем, ни колдуем, собор отбить не удаётся… Голова у козла отрублена, но ноги ещё дёргаются.
– Вы проиграли, мальчиши! – вздрючиваю письмом торжествующий горисполком. Расхрабрившись, строчу хартицу президенту Америки накануне его визита в Москву. Ставлю под обращением своё имя вместе с фамилиями четвёрки нетрусливых парней и везу в столицу.
XXXIX
В Москве останавливаюсь у своего приятеля, оперного артиста, родом из нашего Мухосранска.
Долговязый певец обитает в маленькой квартире с патлатой болонкой и – да простит мне это заимствование великий эстет! – со скелетом Венеры в теле сухопарой супруги, которая старше его по годам и работает в том же театре концертмейстером.
Живут мои друзья весело, суматошно.
Разгорячённые вечерним спектаклем и поздним ужином, спать ложатся в два-три часа ночи, глотнув снотворное. С трудом просыпаются под дрязг дряблого будильника. Шлёпают по очереди в туалет, ванную, пьют в халатах на захламленной кухне чёрный кофе, поглядывая на часы, чтобы не опоздать на репетицию, успеть в магазин.
Боясь застудить на морозе нежные бронхи, солист натягивает тёплые опаловые кальсоны с начёсом. Растопыренной пятернёй берёт несколько расквасистых аккордов на слегка расстроенном стареньком пианино и, пробуя горло распевом, приводит в бешенство прописанную этажом ниже старуху:
– Напьётся с утра и ревёт, как конь!
А лучший бас республики, каковым в шутку или всерьёз, считает себя мой земляк, закончив вокальные упражнения, подкрадывается к оконной форточке, чтобы окатить горячей струёй из резиновой груши пачкающих балконную рухлядь нахохленных голубей.
Днём, когда хозяева в капище Аполлона, отправляюсь на встречу с отцом Глебом Брыкуниным, который, отсидев несколько лет в лагере за пятиминутную демонстрацию с монархистами, подняв на Красной площади флаг самодержавия, служит священником в Подмосковье, но живёт с семьёй в столице.
С Брыкуниным меня свёл отец Лев.
Наше первое свидание состоялось в Москве около театра, где вертятся мои друзья. Знаменитый диссидент оказался мужчиной среднего роста, лет пятидесяти, рыжеват, похож на Ван Гога, когда тот ещё не откромсал себе ухо.

