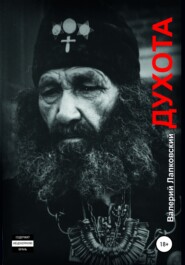 Полная версия
Полная версияДухота
– О чём вы хотели спросить?
– Зачем вы меня… мучаете?
– Мучаю?
– Да…
– Вам знакома сварка взрывом?
– Взрывом?
– Да, когда намертво сшивают не обычно, а взрывом…
– Вы опасный человек!
– Ещё бы!.. Спасибо за хлеб-соль… Мне пора! Самолёт улетает чуть свет.
Нехотя ухожу и представляю, как она раскладывает карточный пасьянс на жёстком диване… сворачивается калачиком под одеялом…, долго не в состоянии уснуть…
XLIII
Утром жена оперного баса поймала «Кучу» в театре. Та выглядела нездоровой, была бледна, жаловалась на мигрень. Между прочим, поинтересовалась, улетел ли «дипломат»?
Сообразительная коллега (ей ничего не было известно об отъезде, вернее, она точно знала, никуда он сегодня не собирался) брякнула нечто весьма неопределённое, что можно истолковать так и сяк… Да, торопился, чёрт возьми, но, кажется, опоздал на вокзал…
– На вокзал? Он хотел лететь самолётом.
– Ну да, я имею в виду аэровокзал!
Дома концертмейстерша устраивает бучу:
– Садист! Эсэсовец! Вы намерены оставить её одну в Новогоднюю ночь?!
– Может, – подумал «садист», – и правда, бросить всё в Крыму…, отвязаться, забыть скандалы, тягомотину с властями, угрозы, общину, храм, остаться здесь навеки или… сесть в ближайший поезд на юг?
XLIV
В полдень гуляю с Мошенским по берегу Москва-реки под аккомпанемент его экзальтированных рулад:
– Караян женился на манекенщице… Коровницу сделали статс-дамой!.. Видели его подпись? Не факсимиле, а дубликат ссадины на колене мальчишки… А Брукнер? Нос крючком, щёки в красных пятнах, жирная шея…
– Господи! Да какое вам дело, разве это имеет отношение к музыке?
– Где вы наглотались Теодора Адорно? Его «Введение в социологию музыки» до сих пор не напечатали у нас, прячут!
– Брукнер часом не еврей?
– Ну что вы? Вагнер не принял бы его… Апропо: о евреях.
– Только не долго…
– Выскочив из средней школы, многие навсегда забывают книги, которыми нас пичкают в годы учения. Именно пичкают, ибо ухари-педагоги скрывают подлинный смысл сочинений классиков, применяя глиссандо. Возвращаться позднее, например, на хутор близ Диканьки как-то нет охоты. И если случайно, может, по совету друга, спустя двадцать лет вы вновь берётесь за «Тараса Бульбу», что непостижимо как случилось намедни со мною – вы не поверите! Передо мной во всю мощь развернулась такая новая картина, что, кажется, никогда не читал знаменитую повесть!
Обыкновенно нам преподносили Тараса как образ грозного и грузного казацкого полковника, умельца постоять за ущемлённые интересы Родины… Мало ли подобных героев?
– Что же было, на ваш взгляд, пружиной внутри этого персонажа?
– Вот это как раз от всех читателей прятали и прячут, таили и таят даже самые смелые толкователи, те, кто догадывался.
– Так что же хранил в пороховницах Бульба? Удаль, честь, совесть, разум?
– Наипаче: глубокую безоглядную веру в Христа Спасителя!.. Ей Богу, уйду в монастырь… Вся книга – восторжённый гимн искренней вере не только одного Тараса, но всего казачества – в двадцатом веке истреблённом в России пришедшими к власти «свердловыми» – казачества, широкой, разгульной замашки русской природы, необыкновенному явлению русской силы, связанной с общей опасностью и ненавистью к нехристианским хищникам!
– Да вам, Владимир Анатольевич, лекции в Литературном институте читать! А не в оперном театре махать дирижёрской палочкой.
– На первых же страницах Гоголь радостно говорит: Бульба – вечно неугомонный, считает себя законным защитником Православия; всегда хватается за саблю, когда глумятся над христианством, полагая при любых обстоятельствах позволительным поднять оружие на басурманов, татарву и турок…
– Религии нет без молитвы…
– Тарас и за стол не сядет, и чарку крепкой горилки не пригубит без обращения к Богу. И сыновей везёт в Сечь только после благословения супруги, приговаривая ей: «Моли Бога, чтоб они воевали храбро за веру Христову, а не то – пусть лучше пропадут… Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде, и на земле спасает».
– «Приходящего принимайте без споров о вере», – учит Новый Завет. Так ли принимали людей в Сечи?
– Пришедший сразу кланялся атаману, тот вопрошал: «Зравствуй! Во Христа веруешь?» – «Верую». Тогда богословствующий вождь задавал более серьёзный вопрос: «И в Троицу Святую веруешь?» – «Верую». – «И в церковь ходишь?» – «Хожу». – «А ну перекрестись». Новичок осенял себя крёстным знамением. – «Ладно», – решал начальник, – «ступай в тот отряд, где тебе лучше всего». И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать её до последней капли крови, хотя…
– Гоголь не скрывает: и слышать не хотела о посте и воздержании!
– Разве запорожцы хлысты? Шалопуты отвергают церковные таинства, зато не пьют водку, не матюкаются, слушают стариков, живут в любви и единодушии с единоверцами, повинуются мирской власти…
– Ну ангелы, а не сектанты!
– Какое шило всполошило дремавшую в пиршественном раздолье Сечь? Прискакали издалека два казака в оборванных свитках: – «Беда, панове! Церкви теперь не наши!» – «Как не наши?» – «Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперёд не заплатишь, то и обедни нельзя править. А если рассобачий жид не положит значка нечистой своей рукой на Святой Пасхе, то и святить пасхи нельзя! Жидовки шьют себе юбки из поповских риз!»
Одним махом постановили запорожцы перевешать всех жидов, перетопить поганых в реке.
– Это тех-то потомков царя Давида, что учинили для иноплеменников холокост, о чём сегодня наотрез забыли: клали их под пилы, железные молотилки, под железные топоры и – свидетель Библия! – кидали в обжигательные печи – предтечи крематориев Освенцима и Дахау? «Евреи – самые кроткие люди на свете, страстные противники насилия», – уверяет коротышка Сартр, малюя портрет антисемита.
– Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые казаки только смеялись, видя муки бедных сынов Израиля. Днепр не расступился перед потомками Авраама, как Чермное море во время бегства избранного народа из Египта.
– Как, Владимир Анатольевич, вам не стыдно употреблять слово «жид»?
– Пушкин, Лермонтов, Андрей Белый пользовались этим словом так, как оно звучит в Евангелии на церковно-славянском языке и встречается там, как в посланиях Павла слово «блядь». Мир чахнет над «Дневником» Достоевского, аки Кощей над своим златом. Ну а если б в России русских было бы три миллиона, а евреев восемьдесят, как бы они относились к нам? – не может успокоиться Достоевский. – Дали бы евреи русским сравняться с ними, свободно молиться? Не содрали бы с нас шкуру, не уничтожили бы, как чужих народов в древности?… Гоголя подташнивает от неряшливости евреев, их пронырливости, жадностью к наживе.
– Он что, иллюстрирует неведомый ему афоризм Маркса «Бог еврея – деньги», или отображаемое Николаем Васильевичем отношение казачества к бойкой еврейской натуре всего-навсего – спесь антисемитизма?
– Заглянем не в водянистую «Историю Украины» Михаила Грушевского, а в «Историю россов» архиепископа Георгия Конисского. Пушкин отметил хвалебной рецензией этот уникальный труд…
– И Гоголь, очевидно, его также внимательно оглядел?
– Конисский пишет: церкви, не соглашавшиеся на Унию, были отданы жидам в аренду, и положена была за всякую в них отправу денежная плата… Жиды с восхищением принялись за такое надёжное для них сверхприбыточество, и тотчас ключи церковные и верёвки колокольные отобрали себе в корчмы. При всякой требе ктитор повинен идти к жиду, торжиться с ним, платить за требы, клянчить ключи… Покупающий пасху униат должен иметь на груди лоскут «униат»…
– Вспомним жёлтые звёзды на одежде евреев при Гитлере!
– Или: сколько евреев, одетых в шинели вермахта, взяла в плен Красная Армия? Крещендо: десять тысяч!
– А сколько убила их на полях сражений?!
– Подруга Хайдеггера, выдающаяся еврейка Ханна Арендт, открыла миру: 120 тысяч венгерских евреев служили во вспомогательных войсках фюрера! В Италии при Муссолини не было ни одной еврейской семьи, хотя бы один член которой не являлся членом фашистской партии… Но мы отвлеклись, вернёмся к Конисскому…
Униат покупает пасху свободно, не имеющий же начертания того платит дань. Сбор сей дани отдан в аренду или на откуп жидам, а поляки, утешаясь тем, что жиды отправляли свою Пасху свободно, проклиная христиан и веру их, в синагогах на русской земле, все пособия и потачки им делали.
– Совдепия перехватила их инициативу по эксплуатации церквей! Без санкции Совета по делам религий не открывают ни один храм, не ремонтируют, не крестят без инквизиционной ведомости, поставляемой на идеологический рентген в горисполком.
– Запорожцы целуют крест после молебна, напутствующего их в поход. Вдогонку ушедшим на войну сыновьям Тараса привозят ещё раз благословение старой матери и каждому по кипарисовому образку из киевского монастыря; братья тут же надевают их на себя – и начинается, по выражению Николая Васильевича, «очаровательная музыка пуль и мечей»…
– Жиды, констатирует архиепископ Георгий Конисский, избиты целыми тысячами без всякой пощады, получив за мытничество своё довольное возмездие. Гоголь вторит ему: дыбом стал бы нынче волос от тех странных знаков полудикого рёва запорожцев. Избиты младенцы, отрезаны груди у женщин, содрана кожа с ног по колена у выпущенных на свободу. Многие места у Гоголя кажутся дубликатом жестоких батальных сцен древнегреческого эпоса.
– Что значит рядом с такой расправой примитивная депортация крымских татар в далёкую Азию? Не надо сахарных слёз. С предателями на войне не миндальничают! По данным института военной истории ФРГ, не два-три десятка, а две трети мужского населения крымских татар сражались под штандартами Гитлера.
– А ведь были времена, когда казацкие корпуса Сагайдачного, Хмельницкого, Мазепы били татар до остервенения!
– Когда крымские потомки Чингисхана ударили в тыл казакам, напав на Сечь, когда рать запорожцев вынуждена была воевать на два фронта, когда лазутчики-жиды пронюхали об ослаблении казачьих полков и мигом донесли о том полякам, зажурилась в казацких рядах смута, зачернела впереди унылая судьба, и многим взмечталось, чтобы минула их чаша смертная, как хотелось того же в Гефсиманском саду самому Христу. Извлёк тогда Бульба из своих запасов заповедное вино и, угощая братьев по оружию и вере, произнёс тост: «Выпьем, товарищи, паче всего за святую православную веру, чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы святая вера и все, сколько ни есть басурманов, все сделались бы христианами!»
Ни перед кем не ломит шапку казак. Но, если Церковь печалуется, молит о милости к побеждённым – свирепость отступает. Казаки по ходатайству Церкви не трогают своего закоренелого недруга Потоцкого, дают ему уйти подобно тому, как Приам уходит от победителей Трои с выпрошенным телом убитого Гектора.
Гоголь потрясающе запечатлел предсмертное преображение пленённого поляками сына Тараса Бульбы Остапа. Истерзанный, он в окружении врагов взывает словами Христа на кресте: «Батько! Где ты? Слышишь ли?»
– Ни в русской, ни в украинской литературе нет более высокого религиозного рыцаря, чем Тарас Бульба!
– Кстати, где в данной книге чисто русское, где чисто украинское? Тут всё так туго, братски взаимопереплетено, что, читая её, постоянно слышишь торжествующий клич идущих на смерть запорожцев: «Пусть процветает и красуется вечно любимая Христом Русская земля!»
XLV
Уже сгущаются сумерки, когда я, прослушав музыкальную гамму из семи тонов бурлящего капельмейстера, расстаюсь с ним и звоню Тамаре Сергеевне.
Надев вечерний костюм, оказываюсь с нею в нарядной толпе в фойе филармонии. Здесь, как в театре, где служит моя очаровательная спутница, различаю среди публики две знаменитости: это утомлённый солнцем успеха покоритель снежных вершин кинематографа Упырьев и заваливший столицу вычурными статуями великих людей лепщик Фидийлидзе.
Упырьев не упускает возможности блеснуть россказней о породистости своей родословной, ведёт её от кембрийского периода.
Длинноногий, поджарый папаша его воодушевлённо штамповал акафисты во славу Картавого да Конопатого. Первым сочинил оду в память о Павлуше, пришибленный отцом кулаком за донос в ЧК о скрытом хлебушке. Навьюченный орденами, почётными званиями, денежными премиями, сидя на банкете рядышком с вождём, положил тому в тарелку кусок ветчины, не менее жирный, чем комплимент в тексте, который написал для государственного гимна. После краха СССР, не конфузясь, оперативно заменил имя Сталина на три буквы: Бог.
На даче «гимнософиста» в саду, подражая Гёте, который карандашом начертал на деревянной стене охотничьей сторожки волшебные строки про горные вершины во тьме ночной (с тем же мастерством, с каким резал на обеденном столе жареную курицу), выдающиеся поэты и писатели, артисты и прочие гости оставляли золотым пером автографы на фанерной обшивке нужника, где в эру серпа и молота сын хозяина ховал бумажную иконку своего небесного покровителя преп. Никифора.
Сыграв в уже полузабытом фильме роль крепкого самодержца, оседлавшего каменного коня на площадке перед храмом Христа Спасителя и не удосужившегося опосля революции спешиться даже на задворках Русского музея, актёр выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны и с треском провалился.
Свистать на Руси в жилой избе – грех, отвращается от таких людей Богородица. Но Упырьев (подражая, очевидно, Николаю Второму, окликавшему подобным способом в Зимнем дворце государыню), заправски, сунув по-босяцки четыре перста в рот, аплодировал в палаццо спорта боксёру, пославшему в нокаут чёрного ливийца. А спустя два часа смиренно, благоговейно склонял плешивую голову перед Патриархом; сияя улыбкой до ушей, Святейший хомутал режиссёра за какие-то заслуги алой лентой ордена св. Даниила Московского.
Церковной медальки сподобился и земляк Сталина, смоделировав на Поклонной горе памятник корчагинцам в виде устремлённого в голубую высь шампура с нанизанным ангелом, поджариваемым на солнце вместо шашлыка.
В монографию о творчестве многогранного художника вклинили цветное фото: дряхлый ваятель в измазанном фартуке, бежавший четверть века назад солдатом штрафбата по минному полю, осторожно, как опытный сапёр, лапал за бёдра двух абсолютно голых натурщиц на фоне крупной недоделанной статуи Николая Угодника.
XLVI
Тамара Сергеевна тянет меня в зал, где начинается новогоднее представление. На сцене куролесят шустрые музыканты в костюмах эпохи рококо, разучив несколько дней назад весёлую пьесу Чимарозы.
И напудренные парики, голубой зуд позументов на белых камзолах, ужимки куртуазных тузов на сцене, гоготанье публики, пожилая дама, строго оглядевшая чичисбея Кучинской (профессор консерватории, одиночествует в квартире, где висит портрет интеллигента с пролетарским лицом, который держит в руке книгу, стараясь смотреть в неё и на того, кто на него смотрит), базарная суматоха в гардеробной при разборе пальто и шуб, красноречивый молодчага, который везёт нас с концерта на чихающей машине, радуясь подкалымленной трёшнице – всё томит, как затянутая прелюдия к…
Дома она принимается накрывать стол; останавливаю, нежно обнимая. Артистка выскальзывает из моих рук, щебечет, что ей нужно принять ванну и… почему-то, чтобы раздеться, скрывается не в душевой, а в прихожей, где висит верхняя одежда.
– Ты что? – высовываю вслед за нею нос через распахнутую дверь и вижу: схватив мою шапку, мерит её перед зеркалом, вертит головой, принимая экстравагантные позы.
Вздрагивает от неожиданности моего появления и со смехом бросается мне на шею.
XLVII
Груди у неё оказались обалденные, мягкие, длинные, как уши спаниеля.
XLVIII
Очнулся под холодной струёй воды в ванной, где всё слепит белизной, а каскад разноцветных шампуней и кремов не уступает в задиристости ни одной ёлочной игрушке.
В спальне, отыскав под одеялом её ногу, вытираю о ступню мокрое лицо.
Под утро она тихо плачет в моих объятиях, говорит: это оттого, что ей хорошо со мной; просит, чтобы не исчезал бесследно, оставил хотя бы ниточку…
Проваливаясь в усталое, блаженное забытье, в причудливых переплетениях надвигающегося сна вижу её на сцене… На ней темнеет бархатное, расшитое штрихами серебра, с высоким стоячим воротником платье Марии Стюарт…
XLIX
Приехав из Москвы, замечаю, что участок с ветхим зданием неподалёку от меня действительно приобрёл владелец лягушатника.
Стучат топорами нанятые работники, ломают перегородки, сдирают закопченные обои, дивясь галактикам высохших и ещё живых клопов. На крыше разбирают трубу, бросая кирпичи с присохшей глиной вниз на уцелевшую клумбу гладиолусов.
В саду сидит в брюках на корточках немолодая дочь бывших хозяев, приехала из Орла. Читает мельком пожелтевшие письма отца к матери, роняя их в мелкий костёр. На столешнице блестит стеклянная банка с водой и цветами, спасёнными из-под кирпичного обстрела. Женщина отнесёт их родителям на погост, где развяжет нитку, стягивающую растения, словно снимая с рук и ног покойника тесёмку перед тем, как задрают крышкой гроб…
Сашка по-прежнему пасёт своё стадо:
– Ну, что нового в столице?
Рассказываю, видел генералов, что гоняли его на войну… Один из них, будучи министром обороны, влип в антигосударственный путч, вышел на волю по амнистии, навеки затих, ни слуху ни духу двадцать лет, и вдруг – жив, дотянул до девяноста, и сам президент приехал к нему с поздравлением, привёз тарелку оладий с протёртой малиной – новый орден. Маршал поддакивает главнокомандующему кивками бритого черепа, безусловно, соглашаясь с высокой оценкой его боевого пути; троекратно лобзает главу государства, тот, прикидываясь, делает то же самое. Верховный подходит к пианино и двумя пальцами наигрывает под улыбки генералитета ходульный шлягер – отголосок грандиозного концерта в честь Дня охранки, которой он рулил раньше.
– Э! – чухается хозяин козлов. – Я это видел по телеку.
– Пойдём в город, посмотрим новый фонтан… Сегодня открывают!
– Делать мне нечего! – огрызается «передовик социалистического животноводства», и я, подобно Рильке, которому на выставках было любопытнее смотреть не на живопись, а на посетителей вернисажа, отправляюсь поглазеть на общественное биде.
По дороге вскрываю на почтамте заказное письмо из Италии, куда перебрался вместе с женой оперный бас; получил гражданство, поёт чуть ли не в «Ла Скала» и зовёт в гости.
На «родине неутомимейших развратников и едчайших насмешников» я был, в Пизе, на конгрессе христианско-демократических партий Европы в амплуа заместителя председателя карликовой политической партии, взвившейся в противовес диктатуре, когда совдепия уже подыхала под аккомпанемент мягких, ненавязчивых звуков тускло-медной небольшой трубы небритого старика, что, иллюстрируя своей позой наклон земной оси, пытался осточертевшей мелодией казённого гимна выклянчить у чёрствых пассажиров на автостанции пятак на водку или хлеб.
Конгресс открыла оркестровая «Ода к радости» Бетховена, которую вдохновенно исполняли на сборищах отпетых сталинистов и торжествах эсэсовской интеллигенции под управлением Герберта фон Караяна, одетого в мундир Третьего Рейха.
Многое напоминало бюрократическую Москву: речуги произносили по бумажке, вопросы разрешали задавать лишь заранее согласованные с президиумом. Правда, было и нечто, чего не встретишь на съездах партократии в советской столице. Господа делегаты, когда им приспичивало, перемахивали через кресла, не утруждая себя необходимостью семенить бочком к выходу. Шныряли туда-сюда, не стесняясь присутствия президента республики, коротконогого, с негнущейся шеей политика.
Не палаццо, а цитата из Ницше: лужайка, где пасутся коровы, женщины, демократы, лавочники…
Я был гостем; о чём шумели тут эти пиджаки и юбки не понимал; перевод выступлений на русский язык организаторы мероприятия не удосужились осуществить, ввиду мизерности количества христиан-демократов из России. Был великий соблазн отождествить Конгресс с сошествием Святого Духа на апостолов; вещали апостолы Европы на нескольких языках, превосходно ориентировались в постижении того, о чём много часов говорили, чего нельзя сказать ни о смешении языков на строительстве Вавилонской башни, ни о том, как ученики Христа исполнились Духа Свята, зазвенели на других языках и двинулись во все страны проповедовать Распятого.
В перерыве и без того сытую поросль политических мальков щедро кормят. Вино – несколько сортов: белое, красное. Тонкие ломти шикарной оранжевой ветчины, свежие фрукты, спагетти, мясное филе…
Всей этой публике, охраняемой жандармами с автоматами (чёрные мундиры, алые лампасы), всей подрастающей смене руководителей Европы, пока ещё дурачащейся, но уже оттачивающей зубы, нет никакого дела ни до того, что полиция разогнала в ста метрах от палаццо традиционную в таких случаях демонстрацию студентов против постановлений правительства, ни до их сверстников, христиан из католической организации, собравшихся вечером в плюгавом ресторанчике. Простые голодные рабочие, ожидая заказанные блюда, жадно ели небольшими кусками нарезанный на столе хлеб… Я спросил, как к ним относятся христианские демократы?
– Терпеть нас не могут!
– А Папа?
– Папа говорит, мы оттого несчастны, что не имеем здесь родины, наше счастье и родина – Христос…
Вечером еду во Флоренцию, не надеясь увидеть ни раздражавших Данте бесстыжих горожанок, разгуливающих по рынкам с голыми сосцами напоказ, ни костров Савонаролы, жёгшего книги Боккаччо, Петрарки, шиньоны, маскарадные костюмы, лютни, холсты Боттичелли под колокольный звон и пение одетых ангелами мальчиков.
Что же осталось от прекрасной Флоренции, общества влюблённых в Платона и Плотина, где одновременно жили Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело?
Толпы плебса, площадные клоуны, акробаты… На узких улочках удобные столы… Астрологи, гадалки… На столешнице, покрытой чёрной скатертью, горит плошка, освещая кровавым цветом стоящую торчком пластмассовую ладонь. Хиромант в ударе, раскрывает будущее взволнованной блондинке.
В огромном мраморном соборе прохладно… Служба… Через микрофон в руке священника… Богомольцев – кот наплакал, больше зевак…
Конгресс продолжается… Поляки настороженно пялятся на немцев, боятся объединения восточных и западных тевтонцев… В перерыве между скучными заседаниями к нам за обеденный стол неожиданно подсаживают двух парней: номенклатура Комитета молодёжных организаций Страны Самых Старых Руководителей. Прилетели дать «наставление поэту, отправляющемуся к потаскушке»… Один из них, генеральский сынок, примкнул в Крыму к создателям Либерально-христианской-демократической партии (после падения однопартийной системы такие объединения плодились, как грибы после дождя), куда влипли бандиты, коммунисты, попы, деляги. Верхушку симпозиума трижды перестрелял до сих пор неизвестно кто; наш сотрапезник милостию Божией уцелел и из признательности Творцу, дабы стать к Нему поближе, оставив суету жизни, возглавил агентство по исследованию космоса и полётам на седьмое небо: вместе с Упырьевым отснял на зависть американцам первый в мире художественный кинофильм, как на постоялом дворе космической станции можно вырезать аппендицит или вылечить почечуй.
На прощание распорядители Конгресса суют мне в нагрудный карман банкноту в 50 тысяч лир (хватит на стакан семечек) и в порядке культурной программы везут в городишко, где родился св. Франциск Ассизский. Всем членам делегации вручают по сувениру (плюшевую пластину с благодарностью за посещение), а мне, поскольку не хватило подарков, подносят бутылку рома, на этикетке – Pater Seraphicus.
L
По дороге на гульбище иду к новому фонтану мимо собора Иоанна Предтечи. Не так давно местная газетёнка разбавляла опиум для народа слюною бешеной собаки: торговки, слесари, рыбаки, отборные партийцы, металлурги, комсомол, педагоги – все норовили разорвать меня на полосах захолустного официоза, а теперь палкой не выгонишь из битком набитого храма, стали «общниками божественного естества». Молятся! Кому? Зачем? … «Беременные сеном разродятся соломой».
У дверей собора приколотили мемориальную доску, чей-то профиль… Чу! это же земляк, путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, дважды святой лауреат Сталинской премии, великий хирург, архиепископ Лука!
Как ты, теплейший к Богу о нас молитвенник, мог подкалдыкивать Аэндорской волшебнице, вызывавшей духи усопших? Разве не чуял гнева пророка Исайи и отцов Церкви: «Спрашивают ли мёртвых о живых?… нет в них света». Чего ради отмахнулся от «Плодов просвещения» Льва Толстого, что смехом высек импонирующий себе оккультизм?… Поздравляя приторно затёртыми телеграммами Сталина с днём рождения, не иллюстрировал ли резюме Некрасова: «Люди холопского звания сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»?… Славно было бы близ твоего облика на стене собора поместить барельеф с физиономией Ленина, чей портрет ты повесил в своём кабинете рядом с иконой Богородицы.

