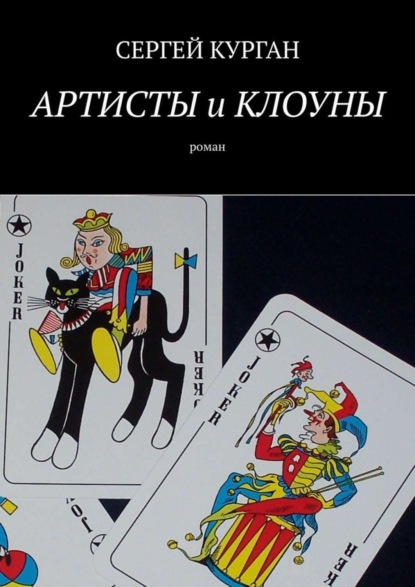
Полная версия:
Артисты и клоуны. Роман
– Давай! За это, – завершает Саша ритуальную формулу.
Вот теперь можно выпить – и даже нужно. И они выпивают, закусывая беляшами.
– Ну, что у тебя с подготовкой к политеху? – переводит Саша разговор на тему, которая сейчас для обоих является наиболее актуальной и, можно сказать, животрепещущей. – Как там высшая математика?
– Там до высшей ышо далеко. Пока что низшая.
– Шютка?
– Какие шутки? Мне не до шуток. Потому и шучу. – Он смеется. – Ты ж знаешь, какой я знаток математики. Вместе списывали. Копировали, так сказать, документы.
– Это тоже искусство, – замечает Саша. – В политех не поступишь – в разведчики пойдешь. Многое уже умеешь.
– Ну да. «А что? Английский я уже знаю».
Оба смеются.
– А если серьезно? – спрашивает Саша.
– А если серьезно… Кратко? В двух словах?
Саша кивает.
– Трындецус полнус, – отвечает друг.
– Что, так хреново?
– А! Трубка дело…
– Махнул рукой?
– Скорее ногой.
Друзья смеются.
– В армию ж можно загреметь, – замечает Саша.
– Это не есть возможно, – вздыхает Гена. – Напряжем свои могучие силы…
– Военная карьера не прельщает, значит? А то, может, в генералы выйдешь? «Стану я точно дегенералом»…
– Лучше адмиралом.
– Контра-адмиралом.
– Ну да. Я вообще контра недобитая.
– Или нет – витя-адмиралом, – продолжает Саша любимую забаву – игру словами, – Точнее, Гена-адмиралом.
– Буду енарал-аншеф.
– Ковальчук-паша, – обыгрывает Саша фамилию друга.
– Лучше Кавацука —сан. Самурай. Страсный селовек! – подхватывает Гена и кричит «дурным» голосом и довольно громко: – За сёгуна!!
…Увлекся человек – подзабыл, где находится.
– Ты это… потише, – напоминает ему Саша. – Все ж-таки сверху твоя хата.
Гена комически подносит палец к губам.
– Всё. Уходим в подполье, – произносит он.
– Вроде бы мы и так в подполье, – саркастически возражает Саша.
– Ну да, – Конспиация, конспиация и еще аз конспиация! – картавит Гена, изображая товарища Ленина.
И это не должно удивлять: эпоха Застоя – она не так проста. Это – не только время застолий, но и время осмеяния. Время, когда громкие фразы и крикливые лозунги выхолащиваются и лишаются своего содержания. Время, когда пафос неуместен. Эпоха без кумиров.
То есть, – может подумать читатель, – эпоха без образцов для подражания? Без принципов? Нет, не так: это – эпоха без дутых, картонных кумиров. Как это ни странно – время застолий – это и время протрезвления. Кумиры еще стоят, но большинство уже видит, что они – «дурилки картонные». И позволяет себе над ними покуражиться. Жизнь как бы расслаивается: слой официальный (или официозный) – где все по виду соблюдают «протокол», – и слой неофициальный, частная жизнь, где можно себе позволить говорить то, что думаешь – в благословенную эпоху Застоя за это уже не сажают. При условии, если это делается не публично, а «на кухне», то есть, среди своих. Можно рассказывать и политические анекдоты – нынешний Хозяин относится к этому спокойно. «Рассказывают анекдоты, значит, любят» – считает он. Мужду властью и народом как бы заключено неписаное соглашение, и это устраивает подавляющее большинство.
– Правильно, – отвечает Саша. – Раз партия требует… Вернемся к нашим непосредственным обязанностям.
И он наливает по третьей.
– Вернемся к нашим баранам, – поддерживает Гена.
– Вернемся к нашим мензуркам.
Гена поднимает мензурку.
– Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть! – произносит он со вздохом человека, примирившегося с тяжелым трудом.
– Да, – подхватывает Саша, – партия – это рука миллионопалая…
– … сжимающая один громадный стакан, – заканчивает «цитату» Гена.4
И друзья смеются.
– Хорошо, с закусоном сегодня без проблем, – замечает Саша.
– Ну, не хлебом единым…
– Но и водкой. Правильно мыслишь. А вообще…
– А вообще… – Гена «включает» воодушевление и переходит на нарочито-бодрый тон, – «Нам солнца не надо – нам партия светит. Нам хлеба не надо – работу давай»!
– Ну, у нас тут в подвале солнца и так нет, – резонно замечает Саша – и предлагает свой вариант: – «Нам солнца не надо – нам лампочка светит. Нам хлеба не надо – водяру давай»!
– Все – до лампочки!
– Все до лампочки Ильича! – «поправляет» Саша.
– Ну, тебе видней – кто тут у нас Ильич, в конце концов?!
– Точно!
– Называйте меня просто «Ильич»!
– Спасибо. Но не надо.
Оба смеются, после чего Саша достает из кармана портсигар с монограммой «К», который он привез из Москвы, и раскрывает его: сегодня как раз такой случай, когда можно покурить сигареты, на требующие сушки и разминания. А те – на лампочке, пусть себе сохнут дальше: чем суше будут, тем лучше. Затем Саша подносит портсигар Гене. Тот берет сигарету. Тут же Саша щелкает своей десятирублевой зажигалкой, и Гена прикуривает. Только после этого он закуривает сам.
Какое-то время они курят молча, задумчиво. Друзьям есть о чем помолчать вместе.
– Рука бойца держать устала! – прерывает молчание Гена. – За что выпьем?
– Давай просто так, – немного подумав, отвечает Саша.
– А что? Тоже наш традиционный тост.
Оба выпивают, закусывают.
– Ну, а все-таки, как продвигается подготовка к экзаменам? – жуя беляш, интересуется Саша. – Прогресс есть?
– Прогресс лютый! Дело прогрессирует быстро, очень быстро. Что не знал, то уже забыл. В общем, перед тобой есть полный болван.
– Ну, не полный…
– Верно, худой, – смеется Гена.
– А как твой заветный цитатник? – спрашивает Саша – С формулами и т.д.?
В ответ Гена достает маленькую зеленую записную книжку.
– Учим помаленьку. Скоро придем к полному синусу, – Гена вздыхает. – Чует мое сердце – будет мне секир-башка.
– Да по фигу. Не ты первый, не ты последний. Поступишь.
– Ну, должон. А не то, смерть мне есть мгновенная.
Гена откусывает беляш.
– Кто весел, тот смеется, кто хочет – тот допьется! – поет он с беляшом во рту и, после короткой паузы, спрашивает:
– А как у тебя с твоим инъязом?
– А! Устал. Голова уже вконец задуренная. Впору писать мемуары под названием «Калi я быў разумны».5
– А, наливай! Лучше умереть со стаканом в руке, чем с дрожью в коленях.
Глава 6: «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ ПЕРЕЕЗЖАЕТ»
В квартире тихо – все заняты своими делами.
Сережа стоит прямо посреди «большой комнаты», сложив руки крест-накрест, и смотрит отрешенно куда-то в одну точку.
В большинстве семей эта комната зовется «залом». Но у членов нашей развеселой семейки это вызывает здоровый смех. В самом деле, ну какой там «зал»? Зал – это в Букингемском дворце, в Эрмитаже. А здесь, в городской квартире… Как говорит Саша, «Да уж, не Версаль»!
Обстановка в комнате, в целом, довольно обычная, и только один ее элемент придает ей своеобразие, внося совершенно особую ноту – это книги. Высокие застекленные полки с книгами сплошь занимают две стены, так что помещение напоминает библиотеку, – да это и есть, в сущности, библиотека.
Входит Мать. Поскольку комната проходная, ей нужно пересечь ее по диагонали, чтобы пройти в спальню. Можно, конечно, обойти Сережу. Но Мать раздражает это стояние «столбиком», и она обращается к нему.
– Опять застыл? Ни пройти, ни проехать? – спрашивает она младшего сына.
У Сережи это не вызывает никакой реакции, он продолжает в задумчивости стоять в «точке приземления», не двигаясь с места даже на миллиметр.
– «На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн…» – декламирует Мать, щелкая пальцами у него перед носом.
Сережа, кажется, возвращается к реальности.
– Что ты говоришь? – спрашивает он.
– Публичное одиночество! – вздыхает Мать. – Тебе этому и учиться не надо!
Сережа сразу заинтересовывается.
– А что это такое, публичное одиночество? – задает он неизбежный вопрос.
– Это когда актеров учат, они делают такой этюд: «публичное одиночество», – объясняет Мать. – Человек садится в присутствии всех, ну скажем, на стул, и просто сидит, стараясь не обращать внимания на окружающих, просто не замечать их.
– Просто сидит, и все?
– Не обязательно. Может чем-то заниматься, но обязательно игнорируя всех вокруг. И делать это нужно довольно долго.
– А зачем это?
– Это для того, чтобы артист привык не смущаться публики в зале во время спектакля, научился вести себя так, словно он просто живет на сцене, чтоб вел себя естественно, не думая все время, что на него смотрят.
– То есть, – удивляется Сережа, – ему должно быть все равно, что в зале сидят люди?
– Не совсем, – продолжает Мать раскрывать секреты своей профессии. – И даже наоборот – он должен чувствовать публику, ее настроение. Ведь он играет для зрителей. Просто он не должен быть «зажат», должен быть свободен, раскрепощен. Это очень трудно, ведь выходя на сцену, человек всегда волнуется. Так что «публичному одиночеству» нужно учиться.
– А у меня и так хорошо получается?
Мать вновь вздыхает – Ох, и получается!
– Даже слишком хорошо, – произносит она. – Но это не значит, что из тебя получится артист.
– Почему?
– Ты не играешь роль, ты просто погружен в себя и не замечаешь никого вокруг.
– Я думаю, – серьезно объясняет Сережа.
– Обязательно нужно думать посреди комнаты?
– Просто мысль пришла как раз, когда я шел.
– И на улице тоже остановишься посреди дороги и станешь, скрестив руки, как Чайльд Гарольд?
У Сережи моментально просыпается интерес. Если бы взрослые дали себе труд присмотреться к сыну, с тем чтобы что-нибудь узнать о нем, а не смотрели бы на него как на странного «заторможенного» ребенка, которого нужно обходить, идя к себе в спальню… Если бы они обратили хотя бы немного внимания на то, что он говорит, а не относились бы к его словам как к болтовне и сотрясанию воздуха (что может сказать этот сопливый малец?) … Если бы…
Если бы такое чудо чудное и диво дивное произошло, то они бы поняли, что он говорит вполне осмысленные вещи, и что, слушая его, можно понять, чего он хочет, о чем думает. Тогда не надо было бы щелкать пальцами у него под носом, а достаточно было бы просто произнести что-нибудь интересное, небанальное – и он сразу же заинтересуется. Но Мать упомянула Чайльд-Гарольда совершенно случайно – просто потому что ей – весьма начитанной даме – пришла на ум такая ассоциация.
Ах, если бы они присмотрелись, они бы заметили, что он вовсе не «вечно сонный», как полагает Отец (который видит его ровно полчаса в день, и то не каждый), а напротив – у него темперамент – будь здоров! Но он скрыт внутри, а не выплескивается поминутно, как у родителя, и поэтому он считает его лишенным темперамента: ведь каждый судит по себе. Хотя нет на свете ничего глупее этого…
Если бы только они присмотрелись… Но где там: они варятся в собственном соку.
– А кто такой Чайльд Гарольд? – «сонный» ребенок моментально оживляется – «сон» сразу слетает с него. И не сонный он вовсе – просто он любит думать…
– Это персонаж поэмы Байрона, – объясняет Мать. – Такой весь романтически задумчивый. Стоит на берегу, смотрит вдаль. И никого вокруг не видит.
– И глаза такие, с «волокитой», – добавляет только что вошедший в помещение Вова.
– Остряк-самоучка, – отвечает Мать.
Это – одна из ее излюбленных фраз, и не сказать, чтобы удачная: согласитесь – это обидно. Вова пошутил, причем, неплохо, находчиво и с юмором обыграв слова, а в ответ… Ушат ледяной воды – если не чего-то похуже.
– Это Лера так говорит, – объясняет Вова, и зря он это делает. Потому что Мать, задержав на Вове взгляд, саркастически (сарказма вообще многовато в этом доме) произносит:
– Понятно.
– Что тебе понятно? – раздражаясь, спрашивает Вова.
– Так, ничего.
– Вот именно! Ничего!
Назревает ссора – буквально на «ровном месте». Но, к счастью, в этот момент Сережа, занимаясь своим любимым делом, задает вопрос, чем невольно разряжает обстановку:
– А что Вова хотел сказать на самом деле? – спрашивает он.
– Он хотел сказать «с поволокой», – отвечает Мать и, предупреждая занудно-неизбежный следующий вопрос Сережи, добавляет: – Это, как у тебя. Глаза смотрят, но ничего вокруг не видят. Задумчивые сильно.
– А! То есть, их как бы что-то заволокло! – радостно восклицает Сережа. – Понятно.
– Отцу расскажи, как ты догадался. Он будет очень доволен.
– А знаешь что, Порфирий? – неожиданно предлагает Вова. -Ты стань так еще раз, сделай глаза с «волокитой» и задумайся.
– Как Чайльд Гарольд? – Сережа моментально включает новое слово в свою речь.
– Ага. А я тебя «щелкну», хорошо? Ты постой, а я сбегаю за фотоаппаратом.
– Хорошо, – покладисто соглашается младший брат.
Вова убегает в свою комнату.
– А о чем думать? – спрашивает Сережа Мать.
– А о чем ты думал, когда «застыл» посреди комнаты?
– О стегозаврах.
– О чем, о чем? – преспрашивает Мать, которая слышит это слово впервые.
– О стегозаврах – начинает Сережа объяснять с воодушевлением (ну и где вы видели «сонного» ребенка?) – Это ящеры такие, травоядные, жили в мезозойскую эру. Я вспоминал, сколько у них костяных щитков на спине. Они парами идут, в два ряда. И вот я пробовал их по памяти пересчитать.
– И сколько же их? – иронически спрашивает Мать.
– Я не успел вспомнить, – отвечает Сережа с сожалением, – ты меня отвлекла.
– О! Жаль, конечно, что я так не вовремя решила пройти к себе в комнату и прервала процесс размышления. Ты уж извини.
Но Сереже не до сарказма, прозвучавшего в этих словах – он вновь «погружается».
– Ничего, – говорит он рассеянно, – я в энциклопедии посмотрю. А может, все-таки вспомню.
Он опять «отключается» – вспоминает количество щитков у стегозавра. Стоит, скрестив руки, смотрит как бы «вдаль». Он уже не здесь.
Тут в комнату вбегает Вова с фотоаппаратом. Видя Сережу «в образе», улыбается. Заходит с разных точек, наконец, находит подходящую, готовится, замеряет экспонометром освещенность, выставляет нужную. Наконец, щелкает затвором.
В этот момент из спальни внезапно раздается громкий голос Отца: он бодро, с «посылом» восклицает: – О, Дездемона! – А вслед за этим начинает энергично напевать арию из оперы «Кармен»: «Тореадор, смелее! Тореадор, тореадор»!
– Сумасшедший дом переезжает… – произносит Мать тихо, но с чувством.
Между тем, Отец продолжает из спальни громко выкрикивать: – «Тоска» на меня находит, «Тоска»! Это слово он произносит с ударением на первом слоге, каламбурно обыгрывая сходство слова «тоска» и названия известной оперы Пуччини. Энергично выкрикнув это несколько раз, он вновь напевает.
И тут входит Бабка. Она разводит руками и, обращаясь к дочери, громко произносит:
– Ирин, опять деньги кончились!
За этим следует краткая немая сцена: Вова застыл с фотоаппаратом, Сережа стоит в позе Чайльд-Гарольда. Мать на какое-то время потеряла дар речи. Бабка же стоит с совершенно невинным видом.
Напевание внезапно прекращается. Повисает мертвая тишина.
– Погоди, мам, – говорит Мать, вновь обретя дар речи, – но ведь я же только неделю назад дала тебе сто рублей. Я не понимаю, куда они делись?
– Как куда? – недоумевает Бабка и продолжает, совершенно не смущаясь: – Чать, не на бирюльки какие! На базар ходила. Есть-то надо!
– Постой, ты что, все потратила? На базаре?
– Ну, еще в магазин ходила, на нашей стороне, – объясняет Бабка дочери так, словно разговаривает с маленьким ребенком.
Тут надо пояснить, что в районе, где живут наши герои, имеется два больших гастронома – один поближе, и чтобы в него попасть, не нужно переходить улицу, а второй – прямо напротив первого, но через дорогу. В принципе, они ничем существенно не отличаются друг от друга: ассортимент в них примерно одинаковый, но иногда бывает, что какой-то продукт, отсутствующий в магазине «на нашей стороне», имеется в магазине «на той стороне». Вот, собственно, и всё, хотя эти выражения – «на нашей стороне», и особенно «на той стороне» звучат, надо признаться, зловеще-романтически. Как сказали бы в куда более поздние времена, «прямо Толкиен какой-то». А в описываемое время Саша называет его «потусторонним».
Далее разговор приобретает почти сюрреалистический оттенок.
– Это все пошло на еду? – ошарашенно спрашивает Мать. – Куда ж она вся делась?!
– Да съели.
– Кто съел?
– Да ребята и съели.
– Какие ребята?! – в ужасе задает вопрос Мать.
– Вова, Саша, да Сергей, – объясняет Бабка дочери, как полоумной.
– Да они ж все худые, как глисты!
– Да, – вздыхает Бабка, – совсем ребят голодом заморили.
У Матери лезут глаза на лоб, она опять на на какое-то время немеет, но в этот момент в комнату врывается Отец. Он взбешен: глаза его выпучены, и он потрясает руками.
– Вы что, твою качалку, – громовым голосом кричит он, – совсем охренели?! Вы соображаете, – что вы несете?! – в какой-то момент он просто задыхается от гнева. – Кого голодом заморили?! Вам ста рублей на неделю мало?! Люди на такие деньги месяц живут!
Но на Бабку это всё не производит сильного впечатления.
– Да чего на такие деньги купишь? – возражает она. – Говно на палочке?
– Нормальную еду, – отчеканивает Отец раздельно, четко артикулируя звуки, – такую, которую едят все нормальные люди.
– Да знаю я эту нормальну еду, чего в «тошниловках» подают.
Тут сталкиваются два совершенно разных подхода, два противоположных взгляда на денежные вопросы. Прежде всего, потому что у зятя и у тещи совершенно различный жизненный опыт.
Отец родился и вырос в местечковой еврейской семье, которая, правда, еще до войны поселилась в Минске, но происхождение давало о себе знать. Дело в том, что родители Отца происходили из очень небогатых семей. Точнее говоря, из небогатой семьи происходил его отец. А мать его, родившаяся в маленьком местечке к северу от Минска, была и вовсе из очень бедной, попросту нищей семьи. Впоследствии они жили получше, но усвоенное с детства остается с нами навсегда… И ничего тут не поделаешь. Отсюда и постоянная экономия на всём, в том числе и на еде, минимум, а лучше сказать, мизер материальных потребностей, что, естественно, передалось и детям. Теперь Отец зарабатывает хорошо, по советским меркам, даже очень хорошо. Но у него уже это всё в крови. Деньги он охотно тратит только на два вида покупок – водку и книги. А, может быть, книги и водку. А больше ему, по большому счету, ничего и не нужно: стол, стул, кровать. И книжные полки.
Но вот незадача: других членов семьи такой минимализм совершенно не устраивает. Это общее мнение выразил, как всегда, афористично, Саша: – Ходить в набедренной повязке я морально не готов. Батюшка пребывает в нирване, ему что! А мне для жизни необходима нервана – то есть, нормальная одежда. И всё прочее тоже.
Отец на эту его тираду отреагировал привычно: – Ты – купчик! – пригвоздил он сына. Представление о купцах, которых он в глаза не видел, он почерпнул, главным образом, из пьес Алексан Николаича Островского.
Саша спорить не стал – купчик так купчик. – Тебе как специалисту виднее, – спокойно ответил он. И, не удержавшись, ехидно спросил: – Ты вообще-то живого купца видал когда-нить? И не из «Грозы» ли и «Бесприданницы» это всё? Так мы не в театре – это, как ты изящно выражаешься, «живая жизнь». – И, развернувшись, ушел к себе.
– Вот нахаленок! Лупить его некому! – Отец всегда забывает, что сыну уже 17 лет…
Нет – Отец, по его собственным словам, не возражает против покупок. Просто он считает, что они не нужны. В общем, что в лоб, что по лбу… Поэтому Матери приходится постоянно сражаться с мужем, настаивая на покупках, которые она считает необходимыми, что отнимает у нее уйму сил и здоровья.
Но сегодня, надо признать, теща зашла слишком далеко: «голодом заморили» – это надо же! Она хоть понимает, что такое голод?
Нет, не понимает! Для нее голод – это просто когда хочется поесть, когда не наелся досыта. Ну, когда «под ложечкой» посасывает. И только. Именно в этом смысле она употребила слово «голод». Она это трактует так: голодный, потому что не поел, или мало съел (с ее точки зрения). Она считает, что внуки мало едят, и потому они тощие. И всех делов. Что такое настоящий голод – когда «под ложечкой» сосет хронически, когда просто нечего, или почти нечего есть вообще, когда происходит реальное истощение, она не знает. Она выросла в губернском городе Симбирске в зажиточной семье мещанина Степана Семеныча Федорова, краснодеревщика и мебельного мастера. Есть там привыкли много и хорошо. Копейки никогда не считали. Но и после 1917 года она жила неплохо: муж – при его способностях – быстро стал главбухом и получал вполне приличную зарплату. Ну и конечно, она шила по заказам для жен номенклатуры, и платили ей хорошо. Она привыкла делать покупки без оглядки на цены, и если не находила нужное ей в магазинах, шла на базар и покупала там втридорога, причем, не торгуясь – это она считала неприличным…
Иными словами, зять и теща – просто с разных планет, а им приходится жить под одной крышей.
Тем временем, конфликт двух жизненных философий разгорается. Отец кричит, Бабка делает ответные выпады. Форменная коррида. Недаром же Отец напевал арию «Тореадор». Как предчувствовал…
– Ну, все, началось… Хор имени Пятницкого, – тихо комментирует Вова. – Шекспир местечковый.
Куда там! Шекспир…! Это похлеще будет, чем король Лир, взывающий к стихиям. Все орут, бурно жестикулируют. Короче, «сцены сумасшедших страстей и бешеной ярости».
А Сережа безучастно смотрит на книжную полку.
Но вдруг взгляд его упирается в нужный корешок. Он подходит к полке, берет тяжелую энциклопедию, садится в кресло и начинает читать.
Вокруг – сумасшедший дом, и он в самой его середке, ну так что же? Когда же еще и уточнить, сколько все-таки щитков на спине у стегозавра! Потом будет некогда: надо много чего еще посмотреть. У Сережи – свои планы.
– Но, мам, это ж никаких денег не хватит, – пытается дочь образумить свою мать. – Ты бы в магазине покупала, или подешевле выбирала бы.
– Я, когда мясо выбираю, то на мясо смотрю, а не на цену. Если я мясо по цене выбирать буду, то одни мослы будут, собакам глодать. На «холодное», и то не годится.
– Купчихой себя вообразили?! – ревет в ответ на это Отец. – На цену она не смотрит, раскудрить твою… У вас деньги в кошельке растут. А откуда они берутся? Об этом вы думали?! Это же я вкалываю, как ишак! Как ломовая лошадь! Бегаю по десяти работам!
– Как же, бегат он! Ширинкой трясет. А я что ж, сижу, как Саня-бантик, баклуши бью?
– Что вы бредите?! – кричит Отец. Он уже лилового цвета, но не охрип от крика ничуть – голос звучит четко и выразительно. – Что вы себе позволяете?! Меня академики, народные артисты уважают, а вы? Вы себе даже пенсию не заработали! Да то, что вы делаете, я могу одной левой задней!
– А вы б попробовали этой вашей левой задницей чего испечь! – возмущается бабка. – Гонору больно много!
На это Отец не находит, что сказать, только повторяет, задыхаясь от бешенства:
– Вы… Вы…
В этот драматический момент заглядывает Саша – он пришел из школы. В руке у него тонкая папочка с двумя «дежурными» тетрадками. Обозрев поле боя, он невесело усмехается и бросает папку на диван.
– Привет честной компании! – произносит он наигранно бодрым тоном. – Переговоры прошли в теплой, дружественной обстановке. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двухсторонних отношений. Плевательницы полны, но трупов и видимых телесных повреждений пока нет. Впрочем, главная дискуссия еще впереди.
– Ты когда пришел? – спрашивает Мать, никак не комментируя эту пародийно-ироническую зарисовку.
– Недавно. Но как раз к раздаче слонов. Понятно, что никто не заметил – в аэропорту и то тише. Только в подъезд зашел – уже слышно: «Вы что, охренели?!» понятно, что люди заняты. Думал заглянуть попозже, но жрать очень хочется. Марусь, у нас есть чего-нибудь?
– Пока чего-нибудь найдем, – отзывается Бабка. – А потом я на базар пойду – еда опять кончается.
– Опять на базар?! – кричит Отец. – На какие шиши?! Я не миллионер! И деньги рисовать не умею! Обойдетесь!
– Как беляши кушать – то не против, – возмущается Бабка. – А из чего их делать? Из мослов?
– Всё, – громко и со злостью произносит Вова. – Достали, артизды.
Он резко разворачивается и выходит.
– Чего я тако сказала? – не понимает Бабка. – Я говорю, чего есть.



