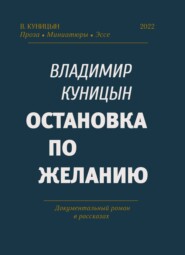скачать книгу бесплатно
Дядя Юра, вполне счастливый и алкогольно весёлый, пошёл проводить меня до станции уже в сумерках. На фоне этих сумерек профиль его лица с огромным носом, картинно и горделиво загибающимся к безвольному, крошечному подбородку, под которым ходил почти такой же грандиозный, как и его нос, кадык, – профиль этот сам смотрелся как джазовая композиция, но в единственном, эксклюзивном экземпляре. Уже на платформе дядя Юра сунул свой красный, индюшачий нос ко мне за воротник пальто, прямо в шарф, поближе к уху, и сказал: «Бабы нас любят не за красоту, а за неугомонность импровизаций».
Я покраснел, потому что после слова «бабы» представил «майне либлингслерерин» Нину Пантелеймоновну и сразу как-то сообразил, что дядя Юра рядом с ней задержится ненадолго. В отличие от звукорежиссёра Боголепова, раба и фана музыкальной страсти, его незаурядная супруга обладала неисчерпаемыми сведениями из различных наук, включая астрономию и океанографию, поимённо знала всех фараонов Египта, включая побочную родню, что уж говорить о русских князьях, царях и боярах?
Так оно и вышло.
Позже ещё выяснилось, что Нина Пантелеймоновна, оказывается, с фронта страдала странным недугом: у неё начиналось головокружение и сбой вестибулярного аппарата при стереозвуке! А значит, она реально любила дядю Юру, коли протерпела его с шестью орущими на всё Кучино стереоколонками целых полтора года.
Но вернусь к аспирантуре. Итак, я опять сижу напротив Нины Пантелеймоновны, до экзамена два месяца, она в панике больше моего, потому что глубже понимает, насколько я не готов.
Чтобы получить хоть какое-то удовольствие от наших занятий, я попросил Нину Пантелеймоновну прочитать на немецком что-нибудь из Гёте, например. Я же знал уже, что она владела всеми основными диалектами языка. И Нина Пантелеймоновна, как артистка на сцене, объявила название произведения, затем автора, а потом наизусть прочитала сами стихи:
Wanderers Nachtlied – Ночная песнь странника!
Johann Wolfgang von Goethe.
?ber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Sp?rest du
Kaum einen Hauch;
Die V?gelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Я вдруг почувствовал, что немецкий в устах Нины Пантелеймоновны слышится как-то иначе, не так противно, как мне всегда казалось, почти красиво. В нём звучала торжественность и значительность простоты. Я попросил её перевести первое предложение.
Она произнесла, загадочно ухмыляясь:
Горные вершины
Спят во тьме ночной…
Тут я подскочил и выпалил, что дальше переведу сам. И перевёл:
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
Она довольно рассмеялась, по-детски захлопала в ладоши, сказала: «А ведь не хуже Лермонтова перевёл, Володька! Какой же ты всё-таки!..»
Через неделю Нина Пантелеймоновна с явно выстраданной убеждённостью констатировала: «Володька, ты безнадёжен! Только чудо тебя спасёт, но я, к сожалению, не волшебник!» Так про себя и сказала, в мужском роде единственного числа – «волшебник», – и хорошо, что по-русски, а не на берлинском диалекте, а то бы не понял я и этой печальной для меня новости.
…От тех «академических» бдений с Ниной Пантелеймоновной остались на память две очевидные вещи: вызубренное на немецком выражение – widerholen Sie bitte noch einmal, und uberzetzen Sie bitte – что в переводе означает «повторите, пожалуйста, ещё раз и переведите, пожалуйста». А также – внезапно выпархивающие из старых папок, портфелей – полосочки нарезанной бумаги с немецкими словами и переводом на обратной стороне.
Я носил эти нарезки во всех карманах, чтобы зубрить слова в любых условиях бытового существования. На последней, совсем недавно выпавшей из архивного чемодана бумажке, легкомысленно закружившейся в воздухе, было выведено моей нетвёрдой рукой по-немецки – wunderbar. А на обороте – чудесно, дивно. Как привет от Нины Пантелеймоновны, уже много лет тому назад покинувшей этот непредсказуемый мир светлых ожиданий…
И ведь чудо в самом деле постучалось тогда в мою дверь! Самое настоящее вундербаристое вундер!
Пока я безуспешно боролся с немецким у Нины Пантелеймоновны, к нам в дом стал приходить новый приятель отца, весьма любопытный гражданин. Он был знаком со знаменитым предсказателем и гипнотизёром Вольфом Мессингом, да к тому же и сам обладал интересными способностями. Фамилия его была Марков.
Папа обожал необычных, странных и неформатных, как теперь говорят, людей! К этому времени он сам увлёкся проблемой внеземного разума, тарелками НЛО, познакомился с В. Ажажой, читавшим в 70-х сверхпопулярные в народе лекции о пришельцах, первым из советских философов заявил, что в бесконечном космосе существуют другие, более высокие цивилизации, подвёл под это явление научно-мировоззренческую базу, всюду выступал со своей концепцией публично и чихать хотел на тех, кто крутил за его спиной пальцем у виска.
«Им хочется, чтобы во вселенной было только их Политбюро! Во главе с дорогим Леонидом Ильичом. И никакого иного разума!» – не стесняясь, говорил папа в аудиториях и саркастически ухмылялся столь очевидной тупости самонадеянных оппонентов. Пока папа ухмылялся, на него строчили доносы те, кто не верил в существование высшего разума, кроме трепетно доморощенного.
Марков появился у нас не случайно. Я это почувствовал сразу. Он занимался изысканием биофизических механизмов художественного творчества, тайных пружин проявления созидательных возможностей человека, был поклонником «Психологии искусства» Льва Выготского, чем купил меня с потрохами, поскольку эта книга Выготского была для меня тогда одной из безусловно важных. К тому же Марков оказался живым, симпатичным дядькой, убеждавшим нас в том, что умеет читать чужие мысли.
Разумеется, каждый раз, когда он приходил к нам в гости, мы заставляли его наши глупые мысли читать. Он растирал ладони одну о другую, брал очередную жертву за запястье, и в полной тишине мы отправлялись в путешествие мимо книжных полок папиной библиотеки – в поисках заранее спрятанной бумажки в заветном томике, с написанным словом, рисунком, или числом. От «автора» тайной закладки Марков строго требовал вызывать в своём сознании образ содержимого – рисунок, слово, число.
За время наших совместных с Марковым опытов он угадал один раз число и второй раз почти угадал сюжет рисунка. Это составляло, если честно, процента три успеха от общего количества экспериментов. Но Марков нам всем так нравился, так горячо убеждали мы его после очередной неудачи – причина в нас, а не в его способностях, что он и сам перестал огорчаться.
К тому же Марков по роду своих научных интересов был в самой гуще разнообразной творческой жизни Москвы. И от него первого мы услышали про актёра Игоря Костолевского, которому Марков с энтузиазмом пророчил скорое блестящее будущее. Ему верилось и в этом! При том, что Костолевский в 1972 году был почти неизвестен даже узкой публике.
Вот тут и всплыла, в связи с Костолевским, фамилия кинорежиссёра Мотыля.
От Маркова мы узнали, что Владимир Яковлевич Мотыль, снявший всего три года тому назад невероятный фильм «Белое солнце пустыни», сейчас готовится к съёмкам картины про декабристов и их великих жён – «Звезда пленительного счастья», где и прославится на весь мир – по мнению нашего нового знакомого Маркова – потрясающий, великолепный молодой актёр Игорь Костолевский, которому уже отдана режиссёром Мотылём роль декабриста Ивана Анненкова!
А дальше из уст удачливого предсказателя Маркова (если иметь в виду его полностью оправдавшийся прогноз по поводу творческой судьбы знаменитого ныне актёра Игоря Костолевского) последовала внезапная информация, которая опять подтвердила совершеннейшую неслучайность его появления в нашей семье. Марков сказал буквально следующее: «Между прочим, Владимир Мотыль будет проходить в моей экспериментальной лаборатории пятидневный курс обучения английскому языку».
К этому самому моменту Нина Пантелеймоновна уже произнесла свою роковую фразу о моей «безнадёжности» в связи с дойч. И повторила её моим родителям, сделав новость официальным фактом кошмара – до вступительного экзамена оставалось ровно две недели сроку.
Поэтому, услышав сообщение Маркова о «пятидневном курсе» английского, все враз переглянулись – я, мама, папа, наш сиамский кот Бася – и подумали об одном и том же. Это читалось по нашим лицам, включая кошачье. Настолько читалось, что Марков переспросил: «Что случилось?»
Я мог бы сказать ему, что вот только накануне опять видел во сне, как захожу в подъезд ненавистной НиНи, моей университетской «немки», вточь как Родион Раскольников с топором в петле под мышкой. Как поднимаюсь за нею следом к лифту, как высматриваю на седой голове пробор, сую руку за отворот пальто, нащупываю дерево топорища… И просыпаюсь от ужаса полного морального деграданса! И чудовищной безысходности.
Но такое не всегда расскажешь и себе самому!
Марков выслушал о моей беде скорбную семейную сагу и, ласково посмотрев, твёрдо произнёс: «Приходи».
На следующий день, недалеко от метро «Таганская», я спустился на двенадцать ступенек вниз, в подвальное помещение метров пятнадцать в квадрате, и протянул руку Маркову.
Он сообщил, что я должен пройти обязательный тест «на обучаемость», и если с первого раза запомню необходимое число английских слов «со слуха», то пройду «на пятидневку». Я кивнул, меня усадили в одно из двух кресел, стоящих посередине подвала, поразительно похожих на электрические стулья. Сноровисто подключили к голове какие-то провода, сунули в руку пульт с кнопкой, а Марков объяснил главную стратегию эксперимента. Она заключалась в запоминании чужого языка на подкорковом уровне – со слуха, как это происходит с детьми. Запоминание фонетики, грамматики, готовых, ходовых фраз и слов, слов, слов. Не менее двух-трёх тысяч за пять дней. Из которых потом мозг сам начнёт «вытаскивать» необходимое для общения. «Штука в том, дорогой аспирант, – сказал, хитро улыбаясь, Марков, – что язык этот помимо твоей воли начнёт всплывать в памяти даже не сейчас, а потом, может, даже через неделю, две недели, неожиданно для тебя самого. Как подводная лодка. Мы это наблюдали!»
Я подумал не без сладости, что две недели мне и нужны для его победоносного всплытия!
Оставшись в одиночестве, я рассмотрел стены подвала и потолок. Вместо обоев они были сплошь заделаны ячеистыми, квадратными упаковками для куриных яиц. «Звукоизоляция», – проэкстрасенсорил я. Кроме кресел и нескольких динамиков по углам комнаты, здесь ничего не было. Это была по очевидному замыслу – площадка для идеального сосредоточения мозга.
«Начинаем!» – сказал голос Маркова из динамика. Зашелестела релаксная музыка, и на её фоне чёткий женский голос стал произносить английские слова. Каждое слово сопровождалось переводом. Моя задача состояла в том, чтобы соединить в своей памяти звук и смысл.
«А теперь без перевода. Нажимай кнопку, если слово запомнил», – скомандовал голос Маркова.
Из ста слов я запомнил больше семидесяти. Это оказался проходной результат, и Марков назвал день, когда начнётся моя английская пятидневка.
В эту ночь Жижина не приснилась. Судьба подавала позитивный знак! Организм сам приступил к выдавливанию ночных кошмаров – крепчающим оптимизмом.
В назначенный день, подходя к подвалу, я увидел высокого, худощавого мужика лет сорока (оказалось, сорока пяти), в светлых полотняных брюках и коричневой, с закатанными рукавами рубашке. Он высасывал из сигареты никотин с какой-то отвлечённой агрессивностью. Мужик был симпатичным, но его длинные бакенбарды, уходящие по вискам вниз и – аккуратной наклонной скобочкой к мочкам ушей, показались дико провинциальными, даже фатоватыми. «Это ещё что за хлыщ?» – подумал я, проходя мимо и спускаясь в подвал.
Марков был на месте не один, с ассистенткой в белом халате, что как бы особенно подчёркивало научную лабораторность и важность происходящего. Следом в подвал спустился «хлыщ» с бачками, и Марков нас представил друг другу. Когда я осознал, с кем доведётся провести пять дней, глаза мои полезли на лоб от приятной неожиданности. Марков даже не обмолвился накануне о Мотыле. Да, собственно, он вообще ничего не говорил о напарнике, и я наивно полагал, что буду единственной «мышью» в набирающем силу великом эксперименте Маркова.
Разумеется, я что-то восторженно прокукарекал по поводу «Белого солнца пустыни», Владимир Мотыль рассеянно покивал, вежливо усмехнулся, видимо, уже привыкнув к зрительским восторгам, и нас усадили на электрические стулья. Затем обмотали головы проводами, а затем оставили одних, среди окружающего нас со всех сторон царства яичных упаковок, словно два гигантских и драгоценных суперъяйца.
Между прочим, не скажешь, что советская кинокритика в 1969 году, когда появился фильм Владимира Мотыля, встретила его восторженно. Отнюдь. Фильм уличили в подражательстве американским вестернам, в «голливудовщине», совсем даже не обласкали премиями, в то время как народ – влюбился в фильм сразу и бесповоротно. А актёр Анатолий Кузнецов, сыгравший красноармейца Сухова, получил в подарок «главную» за всю жизнь роль, хотя до того сыграл множество блестящих ролей.
Как позже случится с Вячеславом Тихоновым и его Штирлицем. С Валерием Золотухиным и Бумбарашем, Высоцким и Жегловым, как до того случилось с Леонидом Быковым и его Максимом Перепелицей… Примеров навалом.
Мы просидели в подвале Маркова часов шесть. Я весь гудел от английских слов, как пчелиный улей. Добираясь в подземной электричке до дома, несясь под московскими улицами, я ощущал себя просто какой-то шаровой молнией новых знаний, в которой сталкиваются и шарахаются друг от друга пока незнакомые английские слова, ещё не скреплённые смыслами и логическими связями. По теории Маркова, они пока лишь булькали в моём подсознании, лишённые созидающей воли. И предстоящие четыре дня должны были оплодотворить их волей разума, дабы возникла новая филологическая жизнь, и её носитель – я!
Счётчик показал, что за этот день я запомнил более восьмиста слов. Счётчик Мотыля назвал приблизительно такую же цифру. Мы шли ноздря в ноздрю. Но на перекурах Владимир Яковлевич признался, что в отличие от меня изучал английский в школе и в вузе. Это меня слегка огорошило и крупно озадачило. Это показалось мне противоречащим главному – как я понял – принципу Маркова: вспахивать подсознание, как «целину», сеять чужой язык в «детскую» непосредственность, как в живую гениальность тайного восприятия нового! А какая могла быть детская непосредственность у сорокапятилетнего кинорежиссёра с бакенбардами провинциального жуира, не знающего поражений от слабого пола с того самого момента, как у него прорезался во рту первый молочный зуб?
Так сгоряча я вдруг подумал в тот первый экспериментальный день, натолкнувшись на неожиданный научный парадокс Маркова. Было не ясно, зачем же он свёл нас вместе? Меня, англоидиота, и опытного Мотыля, знающего британские транскрипции ещё со школьных времён?
Уже на третий день могучего сидения в подвале я осознал, насколько правильно сообразил по поводу «научного парадокса» Маркова.
Нам дали в руки тексты на английском, голос из динамика стал зачитывать их с переводом. А затем тот же голос попросил нас, глядя в текст, произносить его вслух, попутно вспоминая значение слов, которые мы уже вроде бы знали. Вот тут я и разжижился, как медуза, выброшенная на берег, – откуда мне было знать, как читаются английские буквы? Я не владел транскрипцией!
Сочетание знаков не понималось, как их взаимодействие. А кинорежиссёр бодро читал незнакомый текст по-английски и явно не испытывал никаких неудобств.
Запахло жареным.
Лично для меня. Поскольку в паузы наших совместных перекуров я не только зорко пялился на человека, снявшего один из лучших игровых фильмов в СССР, считаю, абсолютный шедевр, но и «взвешивал» напарника, по успехам которого мог различить, как в зеркале заднего вида, удаляется он от меня, а значит, вырастают мои шансы проскочить в аспирантуру мимо НиНи, или уже пошёл на обгон моей хилой «тачки». А стало быть, счастливых очков я недобираю, и великий конфуз зловеще расправляет надо мною свои бестрепетные крылья.
Владимир Яковлевич ответил, что английский реанимирует на всякий случай – и в работе не помешает, и в поездках пригодится. А ведь так и вышло! Успех «Звезды пленительного счастья» был велик!
А я и не сомневался, что всё у него получится, всё он одолеет, глядя на то, как он по-мужски твёрдо сосредотачивался и с головой уходил в процесс. Несмотря на его легкомысленные, как мне казалось, бакенбарды. Ведь я уже видел у нас дома многих знаменитых кинорежиссёров – и Андрея Тарковского, и Элема Климова, и Владимира Наумова, на мой взгляд, красивых мужчин, однако не носивших баки, как не менее симпатичный Мотыль.
Автора «Белого солнца пустыни» переплюнул с бакенбардами только один кинорежиссёр того же исторического периода – чудесный молдаванин Эмиль Лотяну, к тому времени уже сотворивший свои шедевры «Лаутары» и «Табор уходит в небо». В 1978 году он посещал особняк в Дегтярном переулке, элитарный наш ВНИИ теории и истории кино, руководимый незабвенным Владимиром Евтихиановичем Баскаковым, вскоре после того, как вышел его фильм «Мой ласковый и нежный зверь».
У Лотяну бакенбарды были намного пышнее и кучерявее, чем у Мотыля, и, если начистоту, выглядели ещё провинциальнее, хотя и органичнее.
Справедливости ради надо сказать, что Мотыль, судя по фотографиям, сразу, как закончил съёмки «Звезды…», бачки благополучно сбрил. А вдруг потому, что однажды вспомнил, как я на них подозрительно пялился? Тогда, на наших перекурах? Случайный и неравнодушный свидетель его вкусовых атавизмов…
На четвёртый день сидения в подвале Марков вручил нам списки вопросов, которые мы должны были задать друг другу по-английски, и ответить, ясное дело, не по-немецки.
…Когда мы выбрались из подвала на поверхность, чтобы по моей срочной просьбе передохнуть, у Владимира Яковлевича лицо было как у человека, ощутившего внезапную боль во всех тридцати двух зубах одновременно. Он понял, что я не дам ему совершить сегодня ещё один рывок к осуществлению поставленной цели. Да я и сам так расстроился, что готов был попросить у него извинения. За досаду. А что мне оставалось? Не излагать же ему соображения по поводу «методологических парадоксов Маркова»?
Чтобы как-то замять впечатление от позора, который случился только что внизу, когда я не смог правильно произнести (проклятая транскрипция!) ни одного более сложного вопроса, чем самые тупые – «Как ваше имя? Сколько сейчас времени? Как дела?» – я спросил Мотыля о новом фильме про декабристов.
Мотыль попался! Он с такой живостью заговорил о фильме, о том, как ему хочется показать эту историю через характеры, личное, живое, пропустить всё сквозь «человечью линзу», что я с облегчением догадался: прощён.
Запала в память «человечья» линза. И какое-то благородное восхищение женщинами, способными на поступки, сразу улетающими прямо в легенду.
Через три дня после окончания «английской пятидневки» отец с явным облегчением сообщил, что я буду сдавать немецкий не Жижиной, а заведующей кафедрой. Он договорился с деканом факультета Михаилом Фёдоровичем Овсянниковым.
Заведующая выслушала мои ответы на экзаменационные вопросы и просто сказала: три с плюсом. Будете тянуть на четвёрку? Я ответил – нет.
Все прочие экзамены были сданы на «отлично», а «проходная» тройка могла огорчить только одного человека: Жижину, вполне интеллигентно покинувшую мои ночные кошмары с появлением интересного научного подвала Маркова.
Через месяц после нервных событий, как-то утром, за завтраком, я внезапно, словно персонаж Булгакова из «Собачьего сердца», проспикал целую фразу на английском: «Where are you taking me, Joe? There are no people, no houses…» Перетолмачить её с ходу я не смог. Все обалдели, а младший брат Ваня, будущий журналист-международник, перевёл: «Куда ты меня тащишь, Джо? Здесь нет ни людей, ни домов…»
– Что за Джо? – заинтересовался Ваня, совсем даже не потрясённый, что я заговорил по-английски.
А папа сказал:
– Смотри-ка, выходит, Марков не шутил, действительно слова всплывают!
Вот тут все и развеселились.
Хрустальные проводы
Старший сын (16 лет) впервые уходит «в ночное». На чужой квартире, в большой компании. Мальчики и девочки.
Младший (12 лет) предвкушает: «У Георгия будет оргия! Оргия!» Уточняю: «В смысле Рима периода упадка?» – «В смысле!» – вопит счастливый ребёнок.
Я вспомнил, как когда-то, будучи ещё артистом, а не губернатором, Миша Евдокимов говорил в трубку: «Оргич, привет!» Коварно обыгрывая моё отчество – Георгиевич.
И ещё вспомнилось, как провожали брата Ваню в армию. Со второго курса журфака МГУ он решил пойти не просто отслужить, а непременно в десант, обязательно в разведку, потому что круче этого ищи-свищи, а всё равно ничего не сыщешь и не высвищешь! Отец устраивал его туда по блату через контр-адмирала Тимура Аркадьевича Гайдара, с которым одно время вместе работал в «Правде». Наверное, такая «дикость» случилась впервые, поскольку блат употребили для того, чтобы добровольно отдать отпрыска в армию, а не наоборот – спрятать, спрятать, спрятать!
Проводы Ивана в армию накололись татуировкой не только в моей памяти. Подозреваю, они остались в памяти многих, кто участвовал в этом эпическом событии!
В ту ночь дверь нашего дома потрудилась! Если бы она была печатным станком дензнаков, мы ели бы финский сервелат все два года, что Иван отсутствовал. Народ шёл как на водопой в африканскую засуху. Друзья Ивана вели своих друзей, а друзья друзей звали ещё и своих друзей, и потому дверь только охала и ахала, впуская и выпуская. Люди сидели вдоль стен на полу, одна гитара сменяла другую, было душевно, и большинство знать не знало, по какому случаю идёт гудёж.
На моих глазах незнакомый малый, стоявший у косяка, покачнулся, вцепился рукой в чуть оттопыренный край обоев и, красиво наворачивая на спину бумажную полосу как простыню, рухнул к плинтусу носом, уснув до приземления.
Ещё, помнится, кто-то бледный, как Пьеро, привёл с собой то ли посла иностранного государства, то ли культурного атташе. Иностранец совсем не понимал русского, радостно таращил глаза, не переставая улыбался, кивал головой, как японец, и пил водку как сапожник. Пьеро из-подо лба сверкал очень внимательным, вороньим глазом по сторонам и зловеще ухмылялся. Дипломат стремительно хмелел и, кажется на испанском, затеялся говорить с каждым, кто приближался к нему, дружелюбно тяня рюмку, – может быть, хотел чокаться, а может, желал, чтобы подлили ещё. Пьеро молча и жёстко увёл его. Не выражая ни малейшего к нему почтения, что было по тем временам (конец 70-х) даже этаким шиком!
До утра дожили человек сорок с небольшим. Вся эта мятая и несвежая гурьба вывалилась в тихий двор и побрела к призывному пункту через Песчаную площадь, к Берёзовой роще, к стадиону…
Вернувшись домой, мы обнаружили под двумя медвежьими шкурами незнакомых людей. Они тупо спали – один у батареи, а второй под книжными полками. Будить их не стали.
Все горшки с цветами на окнах были так плотно утыканы окурками, что походили на гигантских ежей. У цветов, надо сказать, видок был тоже не свежий. Они пялились на бычки с детской обидой и понятной брезгливостью.
Я вышел на балкон. На узкой перилине одиноко стоял хрустальный фужер, стоял грациозно, как канатоходец. В нём было недопитое шампанское, а в шампанском, прижавшись друг к другу боками, плыли куда-то две недокуренные сигареты.
Взглянув вниз, я обомлел: на металлической ограждающей сетке второго этажа лежало ещё два наших хрустальных фужера! С пятого, откуда я на них и пялился, они выглядели абсолютно, невероятно целыми. Это были фужеры, которые мы давно стали называть фамильными. Отец купил их ещё в Тамбове, в самом начале 50-х. Они были для родителей первой после войны роскошной, как бы необязательной покупкой. Большие, с великолепной, обильно играющей светом резьбой, очень праздничные фужеры! «Что за люди бросали их туда, вниз?!» – подумалось моей измученной алкоголем головой.
Дверь мне открыли сразу, точно ждали, так же охотно провели к окну, и я, не веря глазам, достал наши тамбовские раритетные фужеры совершенно невредимыми. Это обстоятельство восхищает меня по сей день. Из шести предметов тогда уцелело четыре. Они и сейчас живы. А папы давно нет. Нет теперь и Вани…
Примаковы
С Примаковыми связаны дорогие воспоминания. В августе 68-го года я жил на их «правдинской» даче в Булдури под Ригой. Кровать мне поставили у окна, и я – в двадцать-то лет! – возвращался «домой» из «ночного» через окно, чтобы никого не будить. Сам Евгений Максимович отсутствовал. Жили в небольшой, кажется, двухкомнатной дачке. Лаура Васильевна, для меня – единственная его жена – и их чудесные, просто восхитительные дети: тринадцатилетний сын Саша и очаровательная крошка Нана.
Моего отца из «Правды» к этому времени уже убрали. Так что это был и дружеский жест поддержки со стороны Примакова. Ведь он продолжал работать в газете и отлично знал, что Георгия Куницына наказал лично «дорогой Леонид Ильич Брежнев». Наказал за то, что тот посмел заступаться за Лена Карпинского и Фёдора Бурлацкого, которых он, Брежнев, повелел из «Правды» выгнать. За их скандальную статью в «Комсомолке» против театральной цензуры «На пути к премьере».
Мой отец – единственный из всех присутствовавших на судилище – проголосовал против. Единственный! Притом зная, что Ильичу доставят стенограмму заседания…
В том августе я впервые в жизни увидел море! Я столько мечтал об этой встрече, воображал себе море на разные лады, но, когда мы с моим «проводником», младшим Примаковым взбежали на песчаную дюну и передо мной предстал Рижский залив, я ахнул от разочарования! И это – море?!