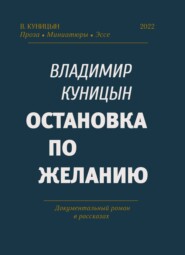скачать книгу бесплатно
Никогда не забуду одну картинку! В 1968 году, после провала в Институте мировой литературы защиты докторской диссертации опального Куницына, отец всех, кто был на защите, повёл «отмечать» событие в ЦДЛ. Мы вышли разволнованной толпой и пошли через улицу к ресторану Союза писателей. Какая это была великолепная, похожая на демонстрацию, толпа! Знаменитые актёры, с мировыми именами режиссёры, профессура, знаковые поэты и писатели, учёные. Многие так и не поняли, что произошло! Почему столь блестящая защита, где не было в открытую сказано ни одного худого слова, – оказалась «беззащитной»?!
И вот тут-то я увидел, как кое-какие «друзья» стали, трусливо озираясь, покидать «демонстрацию», шагающую по Поварской в сторону площади Восстания. Они, эти люди, незаметно растворялись в переулках и за углами домов, поняв, что «провал» диссертации не случаен и что оставаться в орбите «такого» диссертанта – опасно для их личной карьеры!
Леонид Зорин был на этом легендарном банкете. Легендарном, потому что этот банкет Георгия Куницына вспоминают частенько до сих пор. А тогда об этом громком банкете – «в честь» мстительно проваленной «верхами» защиты «цекиста-расстриги» – шумела вся Москва. Вот как запомнил тогда произошедшее Леонид Зорин:
«Мне выпала обязанность руководить столом, вести этот стол в этот день. Это был поразительный, невероятный стол, где все были веселы, все были в каком-то кураже, в каком-то неестественном, несколько нервном, веселье. Как будто бы всё состояло из победы, а не поражения, как будто бы всё получилось хорошо, благополучно. Так все противостояли тому, что произошло, всей этой несправедливости. И он был весел, напорист, мужественен, – ни грамма уныния, ни грамма драматического восприятия жизни. По поводу случившейся страшной несправедливости, которая произошла в этот день… Я думаю, что и наедине с собой он был стоек, мужественен и не позволял себе разнюниваться. На следующий день он начал сражение за диссертацию, и спустя два года он защитил её с блеском и выиграл эту длительную, тяжёлую, мучительную битву, – он не отступал никогда. В конце концов всё встало на место».
Зорин не отступил от отца, не отодвинулся, как многие в годы его опалы, вынужденной безработицы, безденежья. Он продолжал появляться у нас дома в первых рядах, на всех семейных и дружеских сборищах, которые так обожал отец и стоически осуществляла моя мама, которая – как я иногда в шутку говорю ей – «выкормила своими пирожками и запечённым в духовке мясом с чесночком и морковкой – почти всю оппозицию шестидесятых!».
Да и отец, если верить тому, о чём рассказывает в этом интервью Леонид Зорин, частенько бывал у драматурга дома, и засиживались они в разговорах «на кухне», бывало, до утра, вместе с Олегом Ефремовым, режиссёрами Аловым и Наумовым, с которыми связан был и отец общей дружбой.
А позже стал бывать в нашем доме и сын Леонида Генриховича, Андрюша, одногодок моего младшего брата Ивана. Иван имел поразительный талант к дружбам, вокруг него вращалась целая толпа приятелей, которые, благодаря открытости Вани, на многие годы передружились между собой, и этот горячий комок катится по жизни и не распался совсем до сих пор!
Сын Зорина, Андрей, теперь уже с восторженных слов Вани о нём, был вундеркиндом, наподобие своего прославленного отца. Иван восхищался тем, что Андрей уже в девять лет начал писать роман и обладал широченной эрудицией к пятнадцати годам, когда они с младшим Куницыным и сошлись.
В известном писательском доме у метро «Аэропорт» все его жители, разумеется, друг о друге знали всё. И к этому – плюс! – постоянно придумывали о соседях байки, поскольку совокупного таланта у «дома» было столько, что он бил фонтаном и по «своим». Про маленького Андрюшу, например, который, гуляя во дворе, всё время что-то бормотал себе под нос, сочинили, что он «подсчитывает папины гонорары». Поскольку пьес у Леонида Генриховича только в Москве одновременно шло больше, чем в своё время у драматурга Александра Островского, самого плодовитого автора ХIХ века!
Дружбу Ивана и Андрея скрепило и совместное пребывание в международном летнем лагере «Спутник», где наши набирались английского языка у ребят из Англии, а английская молодёжь училась тонкостям русского языка у русских. К обоюдному удовольствию.
Сегодня Андрей Леонидович Зорин – профессор Оксфордского университета. Один из крупнейших специалистов по истории русской культуры.
В 2019 году «младший Зорин» принимал участие в международной конференции в Тартуском университете. Получилось так, что участником этой конференции был и мой сын Георгий.
Конечно, не только Леонид Зорин остался на долгие годы верен дружескому общению (включая шахматы) – с «неуправляемым Куницыным». Никогда не забывали об отце благодарный за помощь с фильмом «Андрей Рублёв» Тарковский, Элем Климов, Хуциев, Ваншенкин, Тендряков, Евтушенко, Костров, Евгений Григорьев, Лариса Шепитько (до самой своей гибели). И многие ещё прекрасные люди.
Но не все так эмоционально и прямо успели сказать о нём, как это сделал Леонид Зорин:
«…Это всё вехи моих личных отношений с Георгием Ивановичем, за что я испытываю к нему глубочайшую благодарность, которая никогда не померкнет и не поблекнет. Но, помимо творческо-деловых отношений, самыми впечатляющими были человеческие отношения. Мы потянулись друг к другу, были дружны, встречались, и я смотрел на эту совершенно ни на кого не похожую натуру. Все черты крупного человека в нём были не спрятаны, а они были необычайно рельефно обозначены. И сила, и гигантская физическая мощь, и безусловная духовная мощь, ей сопутствовавшая, и твёрдость, и абсолютная неспособность к какому-либо вилянию, к какой-либо гибкости. Эпоха, которая требовала предельной гибкости от человека, встретила невероятный экземпляр, невероятную человеческую особь, которая эту гибкость отметала. Это была прекрасная прямолинейность – не раздражающая, не утомляющая, а восхищающая!»
Я благодарен людям, которые хранят добрую память о моём отце. И одним из особенных остаётся для меня Леонид Зорин, так ласково, душевно и искренне – теперь это исторический факт – обрушившийся когда-то на нашу семью с поцелуями!
Много лет тому назад, более полувека, между прочим, в первую нашу встречу Зорин показался мне похожим на жука.
Миновавшие годы добавили важное уточнение в эту мальчишескую фантазию. Как известно, под раздвигающимися в обе стороны надкрыльями, защищающими спину, у жуков прячутся нежные прозрачные крылья, которые, несмотря на свою прозрачность и нежность, способны возносить вверх, высоко-высоко!
Разумеется, подобные крылья я не стал бы напрямую сравнивать с ангельскими, а всё же, в нашем конкретном случае, что-то похожее тут, по-моему, есть…
У зеркала
День рождения Андрея Тарковского – 4 апреля. Всенародным этот праздник станет не скоро, но для меня лично день праздничный, поскольку уже не представить свою жизнь без «Иванова детства», «Андрея Рублёва», «Зеркала», «Сталкера», «Жертвоприношения»…
В 1975 году в Доме кино на Васильевской был премьерный показ «Зеркала». В зале собралась вся королевская рать кинематографа. Андрей пригласил отца, маму и меня.
Этот просмотр потряс и опрокинул! Я оказался свидетелем какого-то массового позора киношной элиты. Не спорю, «Зеркало» для восприятия не самый простой фильм Тарковского, особенно в начале просмотра, пока не нащупан ключик к картине. Но как только открываешь метафору времени внутри происходящего, всё становится совершенно прозрачным. Дальше ты просто наслаждаешься порханием, как птица, в ветвях большого родового дерева – от отца к сыну, от внука к пращурам…
Выходить из зала начали почти сразу, по одному, по два, с громким недовольным бормотанием. Выходили и потом, и даже близко к концу фильма, не дотерпев до финала, с нарочито сердитыми комментариями: «ни черта не понятно», «не фильм, а издевательство», «головоломка», «ерунда какая-то». Представляю, как больно было Андрею все это видеть…
Сказать, что я был в шоке, – ничего не сказать. Я был в ярости от презрения к этим «творцам», к их убожеству и неуважению к чужому творчеству! И в ужасе от того, насколько же низок интеллектуальный уровень этой нашей киношной элиты, не способной понять другой, иной киноязык! Ведь среди выходящих я видел и выдающихся кинематографистов, отнюдь не простаков.
Прошло после премьеры более сорока лет, а помню отчётливо до сих пор свою обиду за Тарковского. Конечно, молодой был, резкий, горячий, не отёсанный ещё жизненными компромиссами, но теперь-то понимаю, отчего так разъярился: Тарковского обидели свои, а не чиновники. Свои!
Меньше секунды
Когда натыкаюсь на «старое советское кино» в телевизоре, смотрю, будто под гипнозом, не могу оторваться, сколько бы раз ни видел тот или иной фильм раньше. Так, оказывается, хорошо и основательно снимали при «советском режиме» даже проходные ленты. И главное – сколько психологизма, доброты, честности, ума и таланта в этих фильмах. Даже понятнее стало, отчего наше кино столь высоко ценилось на Западе. И премного наград наполучало там на самых престижных фестивалях! Было за что.
Работая на «Мосфильме» в 1966 году, я встал на учёт в «актёрский отдел» (заявление, фотография), чтобы подрабатывать в массовках. За общий план платили трёшку, за эпизод, хоть и с одним словом, 10–15 рублей. Вокруг этого дела кормилось немало народу. Я это понял, когда на съёмках стали попадаться одни и те же лица. Эдакие типажные, я бы сказал, тётки и мужички. Но встречались и очень хорошенькие молодые девы, мечтающие, чтобы на них – вдруг! – обратил внимание какой-нибудь режиссёр и взял, например, на главную роль в следующей своей картине. Тогда нередко писали, как на улице случайно кому-то предлагали сняться в кино, и – о чудо! – девушка или мальчик сразу становились знаменитыми! Как, скажем, та же Наталья Варлей («Кавказская пленница»).
Короче, иногда сшибал я свои трояки, поднимая «палец в толпе», как говорили сами массовочники про себя.
И вдруг, в 1968 году, когда уже учился в МГУ, благополучно подзабыл про свою актёрскую карьеру, опять позвонили с «Мосфильма» и предложили «сняться» в киноленте «Неподсуден». Видимо, кто-то случайно наткнулся на мою учётную карточку и, как бы теперь сказали, «кликнул» на неё.
Разумеется, я и понятия не имел, что за фильм, кто там снимается, мне был нужен трюльник.
А между тем снимались там «сам» Олег Стриженов, а также Людмила Максакова, Леонид Куравлёв и даже бесподобный комик Алексей Смирнов (моё мнение), сыгравший, как все помнят, того яркого дядьку, которого стегал прутьями по главным мышцам Шурик, приговаривая вещие слова: «Надо, Федя! Надо!»
Нас привезли в аэропорт Внуково, завели в какое-то кафе. Из огромных, сплошь во всю стену окон, как из аквариума, был шикарный вид на взлётное поле, и первым, кого я разглядел, был как раз обожаемый Алексей Смирнов. Он играл эпизодическую роль пассажира. Но и мы, массовочка, должны были изображать из себя пассажиров предстоящего рейса. Наблюдая за Смирновым, из которого просто пёрла самобытность и нестандарт, я осознал, что день удался и без гонорара.
Больше в сцене из звёзд никого не снимали, только Смирнова. Скоро ко мне подошёл помреж и сообщил, что я должен сначала потоптаться вдоль стеклянной стены над лётным полем, а затем затушить сигарету и пойти прямо на камеру, мимо неё, якобы к выходу из кафе. Но только ни в коем случае не смотреть в камеру. Ни в коем случае!
Само собой, проходя мимо камеры, я посмотрел прямо в её растопыренный глаз.
Человек за камерой сказал: «Ладно, обойдёмся без прохода!» Помреж нехорошо взглянул на меня и отправил к окну. Оператор включил камеру, зашумел Смирнов, бурно выговаривая свой короткий текст, я опять закурил (тогда курили и в аэропорту, и в самолётах) и окончательно понял, что актёрская профессия – не для меня.
Конечно, я пошёл на премьеру фильма. И не один. Конечно, ждал «нашей» с великим Смирновым сцены. И когда появилось на экране кафе, встрепенулся: «Видишь, вон там, у окна, спиной, в шапке, это я!» «Где-где?!» – солидарно оживилась подружка, но… было уже поздно. Потом я даже засекал на секундомере, сколько же длился «мой эпизод», но выходило меньше секунды.
И всё же пусть и меньше секунды, но есть и мой вклад в негасимую славу нашего доброго, «старого» кино. Аминь.
Скачущие в небо
Пересмотрел «Бег» по Булгакову. Фильм 1970 года Алова и Наумова. Первый раз видел давно и не оценил. Да вообще картину у нас как-то недорасчухали.
И вот лично для себя будто заново открылось – потрясающие сцены солдатского суда в песчаных карьерах! Боевые сцены как документальные кадры: жёстко, лаконично, страшно. А актёрские шедевры? А Евстигнеев и Ульянов? Чего стоит одна их игра в карты в Париже!
Но всё же особенно поразил «не увиденный» раньше финал картины: по белому снегу скачут фигурки всадников. Кадр построен так, что лес, из которого они вырываются на белый, как свет, простор, словно подводит снизу земную черту, а всадники удаляются от нас вверх-вверх, по диагонали кадра, и вдруг ясно понимаешь: они уходят не по снегу, а по белым облакам, и уходят – в небо, как в вечность! Навсегда.
Какая булгаковская история! Ведь и в «Мастере» подобный же символический уход по облакам – в инобытие. Остаётся лишь восхититься, как режиссёрам удалось увидеть эту булгаковскую концовку и проговорить киноязыком – в конце 60-х, в эпоху тотальной идеологической цензуры, извращённой шкурной трусостью чиновников!..
Мне повезло побывать в 18 лет на съёмках этого фильма. И не раз. В 1966 году работал на «Мосфильме» и в свободное время, снедаемый любопытством и любовью к кино, проникал во все павильоны, где шли съёмки. А к Алову и Наумову заходил вовсе свободно, поскольку в те годы Наумов постоянно бывал у нас дома и запомнил моё лицо.
Тогда фильм имел другое название – «Путь в бездну». Завидев меня, Наумов по-свойски кивал на стул сзади и забывал о моём существовании. А я не верил счастью: прямо рядом со мной, в профиль, сидела… сама Наташа Ростова из «Войны и мира» Сергея Бондарчука и своими по-детски пухлыми губами что-то шептала в ухо Алову, отстраняясь от него время от времени и глядя вопрошающе огромными голубыми очами!
Мне казалось в это мгновение, что нет на свете большего чуда, чем эта молодая женщина, которой было всего-то 24 года! Алов, помню, кивнул, Савельева грациозно, как балерина, протанцевала к выходу между проводов и рельсов. Я успел запечатлеть в памяти её трогательно-женственные, изящно выгнутые ступни в синих туфельках. Подумал с тихим, бескорыстным восторгом: «Бунинские щиколотки!»
В другой раз снимали сцену в белой контрразведке, в чугунной ванне жгли «секретные бумаги», актёр никак не попадал на точку, и недовольство оператора раскалило в павильоне атмосферу. Над эпизодом в семь экранных секунд бились около часа! До меня тогда дошло: какой это адский труд – снять целый фильм, коли одна плёвая сценка растрепала всем нервы!
Девчонка-помреж в паузе склонилась над ванной с горелой бумагой, её юбка задралась раз, и два, и три опасно высоко. Наумов, сидящий прямо передо мной, по-мальчишечьи толкнул в бок Алова и показал головой в её сторону. Тот увидел неожиданное зрелище, они переглянулись, молодо как-то заулыбались, не по?шло, а скорее озорно, симпатично, и отвернулись, как в синхронном плавании, вместе.
Алову в ту пору было 43 года, а Наумову 39 лет, и всё лишь только начиналось, в том числе и тернистый путь к финальной сцене фильма «Бег» с гениально скачущими в небо всадниками…
Птичка моя
Остроумно замечено, что для греха нужны как минимум двое. А для счастья? Лев Толстой много рассуждал о счастье, но, видимо, думал о нём ещё больше. Даже полагал, что конечная цель философии – счастье человека. Однако!
И он же устами Платона Каратаева в «Войне и мире», гениально: «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету».
Древние потрясают онтологичностью суждений: они словно прямо с неба, из первых рук получают истины. Отсюда их глубочайшая уверенность в правоте.
«Счастье внутри человека, а не вне его», – считал Сенека. И поди поспорь! Он же – «жизнь не сама по себе благо, а только хорошая жизнь». То есть – добродетельная.
И опять о добродетели, но уже Марк Аврелий: «…добродетель и нравственное поведение состоит в умении жить согласно природе». Вот вам и работник в «мастерской природы»! Мы-то сегодня всё отчётливее осознаём, как оно бывает, если природу брать за горло и ломать через колено.
А древний две тысячи лет тому назад связал нравственность человеческую с состоянием окружающего мира. А как великолепен Аристотель: «Даже боги не в силах переменить прошлое».
Евангелие пронизано тем же духом неколебимой убеждённости и великим магнетизмом точно в сердце направленной истины: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая». Без любви всё – ничто. Христос усиливает эту идею до предела, даже самую большую жертву человека – если в ней нет любви – не признавая: «Если я предам и тело моё на сожжение, но любви не буду иметь, я – ничто».
Так что же такое – счастье? Не знаю ответа до сих пор. И Лев Толстой, если верить Платону Каратаеву, – пасует перед неуловимостью этого самого желанного и таинственного состояния человеческой души.
Древние больше разговаривали со звёздами, ходили под звёздным небом, их осязание мира физически (согласие с природой) естественно перетекало в связь духовную, ведь это Пифагор сказал первым о «музыке сфер». Как он мог догадаться тогда, без всяких нанотехнологий, что космос звучит, буквально, как оркестр? Современная наука подтвердила это лишь сегодня.
И почему Кант в конце жизни тоже сказал как о самом для него сокровенном – о звёздном небе над головой и нравственном законе внутри?
Да, великие истины, как вершины, стоят в тысячелетиях, а счастье человеческое петляет, словно заяц по полям, и лови его как можешь.
Помню, как в тринадцать лет забрался на гору приземления большого трамплина в Москве. Высота – с тридцатиэтажный дом, на ногах слаломные лыжи, внизу, в сумерках, едва различимые две фигурки товарищей. На концах своих лыжных палок они подняли и держат толстый стальной трос, закрывавший трамплин.
В груди взметнулась и забила, забила крыльями птичка, жахнул мороз по спине и – в пропасть! Кто не помнит это мгновенное ощущение преодоления? Когда уже ясно, что назад невозможно, только вперёд и будь что будет!
И лишь проскочив под тросом, я вдруг как-то сразу представил, что бы случилось, если бы этот трос соскользнул хоть с одной палки. Но – я сделал это! Я доказал, я смог.
Счастье? Вряд ли. Но без опыта физических ощущений, которые бурно даёт молодость, когда беспричинный смех вовсе не признак дурачины, а просто щенячий восторг оттого, что ты есть, ты живёшь и будешь жить вечно, – без всего этого физиологического проникновения в материю жизни – вряд ли состоится и духовный прорыв в более высокие сферы.
Мой любимый рассказ у И. Бунина – «Солнечный удар». Я обожаю его за почти физическое осязание простора, неба, тёплого солнечного ветра, который напоил всё вокруг, пропитал до самого дна, до последней клеточки своим золотым светом.
За то чувственное опьянение, которым полны этот день и люди, случайно оказавшиеся вместе на палубе парохода, за взволнованную сдержанность поручика и дразнящую женственность молодой особы в холстинковом платье. И за боль финала.
Но я бы никогда так остро не понял и не ощутил этого бунинского шедевра, если бы сам, в двадцать лет впервые оказавшись на Чёрном море, не пережил колдовской встречи с солнцем. В те минуты полуденной передышки между морем и морем, лёжа на открытой веранде, я вдруг сам ощутил себя абсолютной частью солнца – я ощутил, как блаженно горит изнутри и снаружи моё тело, как звенит кровь, ставшая будто бы золотой и сияющей, словно сам ветер солнца ворвался во все атомы моего существа! И вся энергия заложенной в меня жизни вспенилась какой-то дикой радостью, что я такая же часть всего сущего, как это солнце, море и тоже звенящие от солнечного ветра деревья.
Я не перечитываю «Солнечный удар» Бунина, боясь потерять первоощущение, но я не забываю о его солнце, бросившем двух людей в объятия друг друга, потому что любовь бывает такой же внезапной, как счастье, а счастье таким же, как солнце.
Между прочим, Аристотель однажды сказал: «Поэзия философичнее и серьёзнее истории». А Шлегель попозже добавил: «Поэзия и философия должны объединиться».
Наверное, потому, что и мудрецы, и поэты одинаково категоричны. Но ведь они – слышат звёзды! А поэты ещё и видят то, чего не видит никто, только они. И поэтому их категоричность – дар свыше.
Сквозь жёлтый ужас листьев уставилась зима…
(Пастернак)
Целый день осыпаются с клёнов силуэты багровых сердец…
(Заболоцкий)
Этой весной мы с моим младшим сыном Лёней, которому пять лет, идём по ледяным лужам. «Папа, ты видел уточку в луже?» Я оборачиваюсь и вижу прямо в центре лужи ледяную корочку, точь-в-точь повторяющую силуэт утки. Как он увидел? Шли быстро, доля секунды, он выхватил образ боковым зрением. Чудо.
А мой старший сын Георгий, которому сейчас девять, в три года подошёл и не спросил, а как бы сформулировал: «Есть только то, что существует». Я упал со стула. Ну не читал же он Платона?
Бог, не знаю за что, подарил мне на склоне лет общение с ангелами. Я держал в своих руках ангелов. Когда родился мой первый мальчик, мне шёл пятьдесят первый год. Однажды, осторожно касаясь губами тёплого его родничка на головке, я ощутил не сравнимое ни с чем благоухание младенца. Утверждаю – в природе ничто не пахнет так блаженно, как макушка младенца. Этим невозможно надышаться! Потому что это не земной, а райский запах. Так пахнет в раю, из которого они, ангелы, приходят. И они божественно благоухают, потому что ещё безгрешны. А как великолепны эти маленькие господа, когда в колясках, словно китайские мандарины, выезжают на прогулку со своей «прислугой»! Они благосклонны, величественны, благородны, доброжелательно любопытны…
Увы, годам к двум, с появлением отчётливого сознания, благоухание исчезает. Какими же мы приходим к старости своей? А ведь все, все без исключения являемся в этот мир – ангелами. И не случайно с умилением тоскуем о безвозвратно ушедшем детстве и юности, потому что там были чище и ещё помнили о рае.
Похоже, дети в младенчестве действительно о чём-то очень важном знают больше, чем мы. Я помню, как однажды Георгий, которому было чуть больше полугода, вдруг серьёзно, не отрываясь посмотрел мне прямо в глаза. Я оцепенел: он изучал меня, глубоко, сосредоточенно, словно взвешивая всю мою невидимую сущность, будто стараясь понять, кто же ему достался в отцы, что за фрукт? И ничто его не отвлекало в эти торжественные секунды, ни мои улыбки, ни мои клоунские гримасы, которыми я, смущённый, пытался его «сбить». Он включил свой проектор, высветил меня (только ли он?) и выключил его сам, когда что-то понял.
Так же обошёлся со мной и Лёня, младший. Он тоже не отказался узнать, к кому его определила судьба.
Поразительно, что, умирая, мой отец посмотрел на всех нас тем же взглядом. Он переводил глаза на каждого из нас, его близких, и словно бы видел что-то оттуда же, откуда смотрят на нас наши младенцы.
В октябре 1996 года, стоя над свежим холмом отцовской могилы в Переделкино, я вдруг увидел, как на ограду слетелись синички. И одна из них запорхала прямо передо мной, на расстоянии руки, словно заглядывая в глаза. А потом села на карман куртки и почти ласково щипнула между большим и указательным пальцем, в то же место, где у отца ещё с молодости была татуировка морского якоря. И сразу же вся стайка вспорхнула и исчезла. Уже на платформе я обнаружил, что на руке краснеет пятнышко с маленькую монетку. Оно продержалось ровно три дня.
Что это было?
В моей груди тоже живёт птичка. Я почувствовал её присутствие в раннем детстве. Это она дала мне испытать в жизни дивное ощущение, словно и ты вместе с ней взмываешь, уносишься куда-то ввысь. В самую высокую высь и растворяешься в счастье – от музыки ли, от любви, от проявлений человеческого благородства и отваги или же просто потому, что твой ребёнок неосознанно прижался к твоей руке и тихо потёрся о неё щекой?
Пока она бьёт крыльями там, внутри, кажется, ещё можно успеть что-то исправить, успеть покаяться перед теми, кому причинял боль. И хотя прошлое не способны изменить даже боги, каждый миг настоящего – это твоё будущее прошлое, а значит, его надо просто не испоганить.
Я догадываюсь, какой вопрос решали мои дети, так сурово вглядываясь в меня: «Человек ли ты?»
Ребята, я буду стараться. И вы тоже будьте людьми…
Духовник из Лавры
В 1981 году мы с моим другом, поэтом и начинающим критиком Игорем Фёдоровым поехали в Загорск, в Лавру, к его духовнику. Тот должен был, побеседовав со мной, или разрешить Игорю стать моим крёстным, или запретить.
Батюшка оказался рыжим малым, румяным, как сельская дева, да ещё и моложе меня лет на пять. А я ждал старца! Игорь всегда с таким придыханием говорил о своём духовнике, что я навоображал себе Пимена.
Сели мы с батюшкой уютненько на скамеечку против очень красивой в это летнее утро Лавры, Игорь отошёл в сторонку, а я, если честно, разочарованный, подумал: «И что же ты можешь мне сказать такого, мальчик, чего я сам ещё не знаю?»
Батюшка начал мягко, дружелюбно задавать простые, как в отделе кадров, вопросы. А я взял «быка за рога» и спросил его в лоб – как он относится к роману Булгакова «Мастер и Маргарита»? Недавно написал об этом статью, и мнение Церкви к такому сложному произведению мне было особенно интересно.
«Нам нельзя читать эту книгу. Церковь её не принимает», – просто сказал духовник моего друга Игоря Фёдорова, по первому призванию – поэта. Я заскучал. Как это – не читал, но осуждаю? Всё у вас, как и в миру? Что начальство решило, так и будет?
Через несколько дней Игорёк меня «окрестил». Тайно, поскольку хоть я и не был никогда в партии, а неприятности советская власть за это таинство устраивала вполне ощутимые и беспартийным.
Прошло, как говорится, много лет, а вопрос так и остался открытым – читать или не читать? Смотреть или не смотреть? По мне – смотреть, читать. Порой и трудно, но как-то… честнее, что ли. Однако и Церковь просто так не говорит. Может, придёт время, когда я плюну и… не пойду на очередного «Левиафана»…
Гиря
На 60-летие отца я и мои три брата решили, кроме прочего, преподнести один общий подарок – пудовую гирю.
Папа принял подарок благосклонной ухмылкой. Конечно же, сразу поднял гирю на вытянутую руку и какое-то время держал её так параллельно полу.