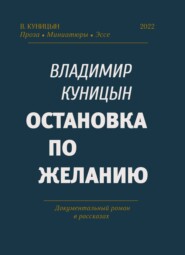скачать книгу бесплатно
– Запросто! Играючи! – хвастливо подтверждает папа. – У льва одна неприятность – комок шерсти на голове. А у Потапыча когти что вилы, размером со штык-нож, и скорость удара лапой – ноль-ноль-одна секунды! К тому же вес матёрого больше львиного в полтора раза. Понятно говорю? Есть скептики?
Скептиков не нашлось, дружно звякнули рюмки.
Потом папа, видно, сильно заскучавший по родной Сибири на этой «волчьей» Тамбовщине, поведал – как его отец, значит, мой дед Иван, нашёл как-то зимой берлогу, просунул жердь, чтобы разбудить от спячки хозяина, и, когда косолапый спросонья схватился за неё, пальнул строго по жерди вниз. Медведь, как и полагается после такого хитрого выстрела, затих.
Зимуют адекватные мишки по одному, потому сел дед перекурить после проделанной работы. Обернулся, когда второй над берлогой по грудь уже выпрыгнул! Выскочил бы целиком – конец! Дед даже ружьё не перезарядил – так верил в звериные законы! Патрон от спешки перекосило – он ладонью ка-ак шибанёт затвор – пуля медведю в башку шмяк, тот в берлогу, к первому, а затвор вывернул из ладони кусок мяса!
Я живо всё представил, мне захотелось из-под стола к маме.
– Это что же, выходит, два медведя в одной берлоге зимовали? – изумился спокойный обычно Комиссаров. – Непорядок!
– Бывает и такое! – сказал папа, и все сочувственно выпили за удачу, а ещё за стальные нервы деда Ивана. Сенечкин добавил:
– Ну не дурак? Сам попался и подружку под монастырь подвёл! Итог звериного волюнтаризма, товарищи! Типичный таёжный троцкизм!
– На такой охоте всё по-честному. Или ты медведя, или он тебя. Особенно если с рогатиной на него идёшь, – сказал внушительно папа. – Это тебе не белок из ружья пугать! – И добавил: – А ещё, скажу я вам, нельзя Хозяину в глаза смотреть! Не выносит человечьего взгляда, сразу кидается!
Наверное, папе показалось, что гости не до конца прониклись величием сибирского медведя и начали расслабляться.
– Вот вам ещё один случай поединка человека и могущественного зверя, – папа потянул на себя вожжи слабеющего внимания. – Жил в одной глухой деревеньке охотник Макар – богатырь, если одним словом! Пошёл этот Макар как-то с рогатиной в тайгу и вышел пря-я-мо на матёрого самца. Зыркнул косолапый на Макара, а Макар глаза и не спрятал!
Тогда вскочил осерчавший Михал Потапыч и попёр, как в цирке, на задних лапах, страшнее немецкого танка «Фердинанд»! – В этом месте Сенечкин застучал под столом ногой, будто застрочил из пулемёта. – Макар едва рогатиной упёрся, – продолжал папа, – а она, собака, бац и соскользни! Ну, тут уж обнялись, как на свадьбе! Медведь мужику когтями скальп с загривка на глаза – р-раз! А Макар мишку по-борцовски в замо?к цап и из последних – хрясь! Переломил хребтину! Вернул Макар на затылок свой скальп вместе с волосами и выполз к деревне. Выжил! – Папа по-актёрски выдержал паузу. – В деревне никто не поверил, что можно сломать медведю спину. Но позже косолапого нашли – с позвоночником в другую сторону! Приволокли на площадь перед церковью, на обзор. Вот какую историю слышал я от отца, а он не умел искажать истину совсем! – гордо закончил папа, и опять запел хрусталь, только теперь в честь редкой силы живучего Макара.
Как-то уж чересчур дотошно вообразил я себе картину произошедшего – меня вывернуло на ближайшую под столом ногу, которой оказалась знакомая всему городу нога Героя Советского Союза Комиссарова.
…Очнулся в кровати. Надо мной мама, в доме тихо, тикают часы на буфете.
Это был позор. Горькое чувство, что я подвёл отца, подвёл деда Ивана и ещё отца деда Ивана, Петра…
Когда умер Сталин
Мне пяти не исполнилось, когда умер Сталин. Наверное, я запомнил этот день, потому что был в детском саду, «с народом». Чёрная тарелка на стене, похожая на пуговицу великана, и сообщила о событии.
Но прежде молодая воспитательница Люба кружилась в танце по комнате. И почему-то именно в этот исторический день я впервые посмотрел на её мелькающие голые ноги с интересом.
Мы сидели на скамьях вдоль комнаты, справа от меня через два сдвоенных окна прямо на Любу обрушивался целым водопадом солнечный, мартовский, весенний свет. Время от времени она со смехом кого-нибудь выхватывала со скамьи и начинала кружить, то поднимая над головой, то опуская параллельно полу, как самолётик! Я ждал своей очереди, отслеживая взглядом пробегающие мимо Любины ноги.
А потом музыка в тарелке замолчала. Люба замерла посередине комнаты, а из тарелки заговорил знакомый мужской голос. И тотчас Люба и все остальные взрослые зарыдали так страшно, что мы заорали им в ответ!
Сколько рыдали, не помню. А забыть такое невозможно. Забывается общий смех, но не общие слёзы!..
Гораздо позже подумалось мне, что, может, и дед мой, Пётр Филиппович, мамин папа, по документам следствия – «японский шпион», расстрелянный в 1938-м в Иркутске, плакал тогда вместе со мной. Не по Сталину – по себе, по мне, по всем, кто потерял друг друга, даже не успев встретиться. Как не встретились никогда мы с дедом…
Простые люди
Нас обворовывали несколько раз. Может, правильнее даже сказать – грабили.
Первый раз криминальная драма случилась в мои шесть с половиной лет. Пока я без дела шатался по палисаднику, за нашими окнами уже вовсю совершалось преступление! Финальную сцену, эффектно венчающую событие, я видел своими глазами: из парадного выбежала с кухонной тряпкой в руке моя старенькая нянечка Екатерина Акимовна, закричала: «Грабят! Держи вора!» – и отважно побежала вдоль дома, размахивая тряпкой из стороны в сторону, как флажком на первомайской демонстрации. Тот, за кем она бежала, был проворнее, а потому его спину могли видеть прохожие уже на соседней улице, за углом.
Я кинулся домой. Когда ворвался в распахнутую входную дверь, мама поднималась с пола, обеими руками держась за живот, и, поднявшись, ринулась в нашу с Мишей комнату. Миша, которому не исполнилось ещё и двух, всё так же крепко спал в своей постели. Живой!
А теперь – как всё было, так сказать, реконструкция происшествия.
Сразу после обеда к нам пришёл обкомовский водопроводчик Николай, молодой дядька лет тридцати. Все его хорошо знали, поскольку именно он чинил в доме трубы, краны и батареи отопления.
Вот и в день ограбления никто не удивился, когда в дверь постучался этот самый Николай.
Мама только что уложила спать маленького Мишу, впустила слесаря, а сама отправилась через дорогу в гастроном. Нянечка Екатерина Акимовна постояла минуту, наблюдая, как Николай щупает в большой комнате батарею, достаёт из сумки инструменты, и ушла на кухню готовить еду. Николай, как «обкомовский», был вне подозрений. Да его давно уже воспринимали за своего и потому спокойно оставляли, не тревожась. Очень скоро обнаружилось, что напрасно.
Николай забрал с буфета мамины часы «Победа», из ящика выгреб оставленную с вечера отцом зарплату. Потом перешёл из большой комнаты в детскую, где беспечно спал мой новенький, пухлощёкий брат, охапками вытащил из платяного шкафа всю одежду отца и мамы, свалил на мою кровать и с четырёх углов цинично соорудил из моего же покрывала большущий узел. Затем приладился закинуть его за спину, но именно в сей торжественно-интимный воровской момент вернулась из магазина мама.
Слесарь Николай из любопытства отогнул уголок белоснежно чистенькой занавески на застеклённой вверху двери. Мама из прихожей колебание ткани чутко уловила, но подумала, что это Екатерина Акимовна, поскольку больше в детской быть некому, пошла к кухне и обмерла, увидев няню у плиты.
Из детской, навстречу ей, выскочил обкомовский «оборотень» и, видимо, поняв по маминому лицу, что живым его здесь брать не будут, – ударил первым, ногой в живот. Кстати, мы теперь все знаем, как оно выглядит, когда здоровенный молодой мужик бьёт женщину ногой в живот: неоднократно показывали по нынешнему телевизору. Мама упала. Вор махнул за порог. А дальше было то самое эффектное и громогласное появление из парадного в палисадник моей любимой нянечки Екатерины Акимовны, первым зрителем и свидетелем которого, как уже говорилось, оказался я.
В тот же день выяснилось, что Николай ещё накануне уволился с работы. Но про заявку на ремонт, оставленную отцом у обкомовского дежурного, знал и, видимо, решил не упускать «удобного случая». Наряд милиции (на мотоцикле с коляской) ещё до сумерек прибыл по адресу проживания «бывшего» водопроводчика – анкета с фотографией Николая из обкома никуда не делась, как и его автобиография, написанная собственноручно при устройстве на «завидное» местечко. На дворе стоял 1955 год, и органы овладели к этому историческому сроку колоссальным навыком взаимодействия «с населением».
Разумеется, по домашнему адресу Николая не оказалось. Взяли его из засады только через пять дней. Без денег, которые он вчистую пропил, проиграл, прогулял, и вообще-то, скорее всего, затосковал по дому, отчего и вернулся сюда, как водится, на авось. О визите мотоциклистов он, конечно, прознал от родни сразу.
Дальше было так. Маму вызвали в отделение. Следователь выдвинул ящик стола и сказал: «Ищите свои!» Мама пошебуршила в ящике, набитом ворованными «котлами», и откопала свои часики «Победа», в форме вытянутого вверх и вниз параллелепипеда с закруглёнными краями.
В ожидании суда задержанного определили за решётку. По УК маячили ему пять лет.
Отец, узнав про удар в живот, а мама была на третьем месяце (брат Ванечка появится в феврале 1956 года), мягко говоря, рассвирепел.
Однако пока шло следствие, к нам в дом ежедневно, как на работу, стала ходить вся в чёрном, будто вдова, относительно молодая, лет пятидесяти, родительница Николая. Что она там говорила маме буквально каждый день, поливая пол слезами как раз в комнате, в которой водопроводчик приступил к грабежу, я не знаю. Помню ужас мамы в день кражи, как только сообразила она, что, пробудись Миша в момент, пока вор орудовал в шкафу, и закричи (а Миша непременно бы закричал, тут я отвечаю!), вор запросто мог накрыть его подушкой, чтобы крикун затих навсегда. Мама в этом не сомневалась, вспоминая взгляд обкомовского «пролетария» перед ударом! Да и вся абсурдность преступления, лишённого даже малейшего проблеска активности мозга слесаря, делала страшное предположение мамы весьма реальным!
Как бы ни было, а только к судебному заседанию родители написали заявление с просьбой о смягчении наказания. Сумела обоих разжалобить «чёрная» посетительница. Растопила слезами материнскими!
И вот настал день суда. Вечером мама рассказала, как всё прошло.
А прошло неожиданно! Мать Николая появилась с целой компанией болельщиков. Расположившись за маминой спиной, не обращая на неё никакого внимания, болельщики лузгали семечки, обсуждали хозяйство, судебную канитель. Николай из-за решётки перебрасывался со знакомыми репликами, был заметно спокоен. Но особенно поразила долетевшая до слуха мамы фраза недавней плакальщицы о том, что сынка пора выпустить, а сажать надо картошку!
На этом самом месте судья упомянул об имеющемся в деле заявлении потерпевших в пользу арестанта. А затем удалился для вынесения вердикта.
Компания за спиной мамы перестала лузгать семечки, засобиралась домой. Николай, похоже, тоже.
Суд вернулся, и судья объявил, что смягчающих обстоятельств не находит (то есть не принимает к сведению заявления моих родителей), и впаял расслабившемуся уже Николаше все пять годков, по полной, так сказать, программе консерватории оперы-балета!
На следующий день в нашу дверь постучалась мать Николая, в том же чёрном платке и платье. Мама открыла дверь, увидела, как униженно опять та кланяется, как убедительно легко текут её жалобные слёзы, и сказала: «А что же вы вчера со мной даже не поздоровались? Не узнали? Вот и я вас не знаю!» И затворила перед удивлённо вытянувшимся носом дверь.
Мы переезжали из Тамбова в Москву в 1961 году. К этому времени бывший обкомовский водопроводчик должен был обрести свободу. Если, конечно, не успел опять придумать что-нибудь столь же экстравагантное, как в нашем случае, и проворно её, свободу, не потерял.
Я же из этой истории вынес важный урок – не верить простодушно в простоту якобы простых людей. Простота, как доказали слесарь Николай со своею мамашей, бывает удивительнее самой изощрённой зауми. Поскольку непредсказуема, как плывущие по небу облака.
О последнем ограблении скажу так – оно оказалось самым гнусным из всех постигших нас краж. Потому что унесли фронтовые ордена и медали давно почившего отца, комбата-сапёра, сражавшегося под Сталинградом и на Курской дуге.
А гражданских наград у отца и не было. Пару раз институты «крамольно» пытались представить к ним по случаю папиных юбилеев, вставляли в списки. Но бывшие сослуживцы из ЦК КПСС, мелкие мстители с большими возможностями, каждый раз вычёркивали его имя. Не могли простить гордой свободы, на которую он решился в своё время, а они нет. Имена этих «героев» известны.
К слову, орден Красной Звезды был для меня всю жизнь особенным. Я его в младенчестве пытался кусать за рубиновые лучи, думал, он съедобный.
У кого нынче эта звезда? Её давали, между прочим, только за личное участие в боях. Кто сторговал наш орден на самом чёрном из чёрных рынков?
Приехавшие с собакой оперативники, узнав, что в доме ошиваются коты, даже не выпустили служебную собачку из машины. След брать оказалось некому.
От их бесполезного появления на даче тоже остался пусть и единственный, но забавный опыт. Он гласит – запах заурядного домашнего кота отшибает у служебных псов профессиональный нюх. Напрочь.
Большой человек в низких коридорах
Я раздвигаю куст сирени и выглядываю на улицу. Мама просила сказать ей, когда увижу отца. Он работает в Тамбовском обкоме партии, это в квартале от нашего палисадника, и обедать ходит домой. На дворе 1955 год, мне семь, отцу тридцать три, маме тридцать лет.
Сирень растёт вдоль чугунной ограды, свешиваясь над тротуаром. Она мешает обзору, мне приходится встать сандалиями на ограду и высунуться из кустов как можно дальше вперёд.
И вот я вижу его! И запоминаю это зрелище на всю жизнь – он идёт по улице среди людей, но видно только его, потому что людской поток ему по грудь. Голова и плечи отца совершенно одиноки в этом коллективном движении. Он худой, слегка сутулый, и его рост за метр девяносто. В те времена таких высоченных людей в Тамбове почти нет. Я машу ему рукой, а он задумчиво дымит папиросой «Казбек» и не смотрит по сторонам.
Вырвавшись из куста, я бегу к маме: «Папа, папа идёт!»…
…Всего через восемь лет он, Георгий Куницын, будет решать участь фильма Тарковского «Андрей Рублёв». Окажется лицом к лицу с самой выдающейся творческой элитой Советского Союза. И его мнение будет значить много.
Неимоверный кульбит судьбы!
Я давно пытаюсь понять, отчего его жизнь сложилась именно так. И порой кажется, он воплощал чей-то пристрастный художественный замысел.
Родился Куницын в сибирской деревне Куницыно в 1922 году. В «родовом поместье», как частенько шутил. Говорил, что блатной романтики вокруг было столько, – запросто мог съехать на кривую дорожку, а тюрьмой в Сибири мало кого напугаешь. Если бы не один случай.
Вот этот самый случай меня больше всего и поражает в судьбе Георгия Ивановича Куницына, Гоши, как звали его близкие. Однажды на уроке математики в шестом классе учитель, не выдержав, спросил: «Гоша, ты “Недоросль” Фонвизина читал?» К этому времени Гоше пятнадцать, он верзила, второгодник, матёрый двоечник, шпана, у него на руке красуется татуировка якоря – в память о матросских походах с отцом на барже по Лене, и он вот-вот пересечётся с законом. Но… он сразу и единственный в классе понимает смысл вопроса, потому что давно перечитал всю школьную библиотеку от «А» до «Я». Гоша не отвечает, но с этого дня становится первым учеником киренской средней школы № 1. И 19 июня 1941 года ему вручают золотую медаль.
Этот факт в жизни отца для меня самый потрясающий. Не только потому, что с него начинается его настоящая судьба, а потому, что всего лишь одна фраза смогла так перевернуть человека!
Другим событием, перепахавшим отца изнутри, был, конечно, XX съезд партии и знаменитый доклад Хрущёва, развенчивающий культ личности Сталина. Не война, на которую он попал сразу под Сталинград и был там первый раз ранен, получил первый свой орден Красной Звезды. Не Курская дуга и второе ранение, а затем ранение в Польше и тяжелейшее в Чехословакии. А та правда, которая оглушила отца в 1956 году.
Я пишу о том, что знаю лично от него и видел сам. В 56-м году мне восемь лет, но я помню, как болезненно и страстно переживал отец крушение своих иллюзий. Я помню и более ранние, «досъездовские» споры в нашей семье. Мой дедушка, мамин папа, был раскулачен и расстрелян. Мама это помнила и прощать Сталину не собиралась. Отец оказывался в тисках: между господствующей идеологией и личной правдой близкого человека. Он бушевал, страдая от неразрешимости вопроса.
XX съезд – ударил по партии коммунистов, как гроза. Отец вышел из этой грозы «шестидесятником». Он пережил настоящую личную духовную драму, потому что осознал сталинизм ещё и как предательство «вождями» его «святого поколения» ровесников. Поколения, воспитанного в беззаветной верности Советскому Отечеству и почти целиком погибшего на фронтах Второй мировой.
Я думаю, фронт и XX съезд как бы довернули резьбу в его личностном развитии до важнейшего ощущения. Кровная причастность к великой Победе, долг перед погибшими друзьями, который он ощущал до последних дней жизни, сделали его человеческое достоинство несокрушимым. А XX съезд погасил свет в кремлёвском окне, который якобы горел по-отечески, пока вся страна отдыхала от праведных трудов. Сакральный смысл этого «окна» исчез навсегда. И пришло зрелое, выстраданное чувство внутренней свободы. «Я должен только своей совести и больше никому и ничему!» – вот девиз этой свободы.
Совместить такой девиз с партийной работой? Непростая задачка. Тянет к знаниям, в науку. В Тамбове заканчивает сразу два факультета – филологии и истории – в пединституте. Мало. Хочет учиться в Москве, в Академии общественных наук. Уже 35 лет, старше не принимают. Пишет заявление первому секретарю обкома Г. Золотухину – отпустите. А тот предлагает должность секретаря по идеологии. Мол, не валяй дурака, со временем вместо меня сядешь. Соблазн был? Ведь семья, уже четыре сына, младшему год.
И вот он, первый звоночек, – Куницын отказывается от предложения и просит отпустить учиться. Золотухин, разумеется, в бешенстве! Дальше всё как в каком-нибудь фильме 60-х. Грозит сослать сначала в захудалый горком, потом в ещё более захудалый райком, куда и на тракторе не дотянешь. Отец едет в Москву в ЦК, и там его, в духе оттепели, понимают. Как раз идёт «хрущёвский» набор и в академию, и в аппарат – молодой поросли партийцев, не замешанных ни в репрессиях, ни в иных старых грехах, в основном тех, кто уцелел в войну. Финальная сцена «фильма» почти как в «Чистом небе» Г. Чухрая. Урбанский разжимает ладонь, а там звезда Героя.
Куницын разжимает ладонь, и Золотухин видит на ней вызов в академию, в Москву. Оттепель.
Через четыре года на кафедре теории литературы и искусства, которую заканчивал, он защищает кандидатскую «о партийности литературы». Можно только догадываться, какой интеллектуальный и духовный штурм пережил Куницын, если в итоге пишет работу, которая, по сути, определяет всю его дальнейшую эволюцию как учёного. И закладывает основу всех его важнейших человеческих поступков на десятилетия вперёд. По сути, этой диссертацией он обосновывает, какой должна быть практика государства в сфере литературы, искусства и культуры, если государство заинтересовано в их подлинном, настоящем развитии.
Куницын утверждал в этой работе, что «талантливое искусство не бывает реакционным». И «всегда является прогрессивным». Говорил, что «лживая идея непременно умирает, если отображающее её искусство правдиво». Партийность литературы, по Куницыну, оказывалась лишь частью более широкой по смыслу художественной правды таланта. И что талант как выразитель в художественной форме правды – выгоден, необходим «партийности». И более того – «правдивое искусство общечеловечно, а не классово и не партийно».
Эти идеи Г. Куницын разовьёт позже в докторской диссертации «Политика и литература», а в 74-м закончит фундаментальное исследование, которое до сих пор остаётся единственным в России по этой проблеме, – «Общечеловеческое в литературе» (изд. в 1980 г.).
Как удалось ему в те годы не просто высказать, а ещё и защитить эдакую «крамолу» и «ересь»? У меня лишь одно объяснение: он настолько досконально и дотошно, вдоль и поперёк изучил труды Маркса-Энгельса, а главное, В.И. Ленина, и не только по этой проблеме, что смог подкрепить и оградить себя их же цитатами.
Короче, бывший комбат-минёр Куницын собственными руками заложил под свою партийно-бюрократическую карьеру очень надёжный фугас. Оставалось только ждать, когда он рванёт.
В 1961 году его берут в аппарат ЦК КПСС, и с декабря 1962-го он «садится» на кинематограф. Что делать здесь человеку, если он сам убеждён в том, что художественная, то есть талантливо выраженная, правда – шире партийной целесообразности?
Да ещё в годы, когда «отец оттепели» Н. Хрущёв, как бы спохватившись, начинает эту оттепель снова загонять в «партийную морозилку». Набив руку на кукурузе и сельском хозяйстве, он с такой же дикой размашистостью берётся за искусство. С кабаньей свирепостью он громит молодую поэзию, живопись, набрасывается на только-только оперившуюся кинематографическую поросль. Уже в марте 63-го Хрущёв в Свердловском зале Кремля обрушивается на М. Хуциева и топчет его фильм «Застава Ильича», швыряет «на полку». Политика партии в отношении искусства и культуры разворачивается – к принципу жёсткого управления, идеологического диктата. Вместо уважительного и взаимовыгодного диалога – тупое партийное администрирование, низведение художника до роли идеологической прислуги. Л. Брежнев лишь закрепит эти хрущёвские принципы и с годами доведёт до совершенства.
В этой острейшей ситуации Куницын продирается сквозь «партийный» окоп на сторону художника – это отвечает его внутреннему убеждению, его теории, наконец, его личным симпатиям.
Уже в мае 1963 года по своей, ни с кем не согласованной инициативе он приглашает М. Хуциева и, преодолевая понятное сопротивление, уговаривает взять «Заставу Ильича» на доработку. Чтобы спасти фильм. А заодно и дальнейшую судьбу опального режиссёра. Он обещает Хуциеву, что тот будет делать всё сам, без каких-либо указок сверху. То есть правка полностью авторская. Сам же пишет Хрущёву служебную записку, обосновывающую необходимость спасения талантливого фильма и, значит, выделения госсредств на доработку. Хрущёв соглашается. После ора в Кремле толика либерализма ему даже на руку.
То, что удаётся сделать Георгию Куницыну с 1963 по 1966 год, пока он ещё в ЦК, не знает аналогов за всю историю этого славного органа – ни до, ни после.
Он, как нынче бы сказали, продюсирует, пробивает, защищает, а когда и просто подставляя голову, спасает такие фильмы, как «Берегись автомобиля» Э. Рязанова, «Крылья» Ларисы Шепитько, «Обыкновенный фашизм» М. Ромма, «Председатель» А. Салтыкова (название фильма, вместо нагибинского «Трудный путь», предлагает Г. Куницын), «Айболит-66» Р. Быкова, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Э. Климова, «Наш честный хлеб» К. Муратовой. При нём запускаются с «Бегом» по М. Булгакову А. Алов и В. Наумов. Снимается «Перед судом истории» Ф. Эрмлера, удивительная для своего времени документальная лента, построенная на диалогах с заклятым врагом большевистской власти Василием Шульгиным…
Так же действует Куницын и в театре. Он не просто помогает, скажем, Ю. Любимову на Таганке, О. Ефремову в «Современнике» – он разделяет их упрямую нацеленность на художественную правду, потому что такая правда для него и в теории, и в практике – сердце прогресса.
А они видят в нём желанную альтернативу казённому стилю партийно-государственного руководства. Его личный пример как бы показывает – так может быть! И так должно быть.
И всё же знакомство с Андреем Тарковским, а потом и все события вокруг его фильма «Андрей Рублёв», Куницын и в конце жизни расценивает как драгоценный подарок судьбы.
Уже читая сценарий, он понимает, что перед ним шедевр. Эту точку зрения ни в Госкино, ни в ЦК никто не разделяет. Более того, сценаристов обвиняют в искажении истории, в русофобии, да ещё и в пропаганде религиозного сознания. В этой ситуации Куницын предпринимает ход, опробованный с фильмом «Берегись автомобиля». Он дает указание журналу опубликовать сценарий «Страсти по Андрею», предавая огласке и легализуя сам факт его существования. От этой «печки» легче двигаться дальше.
Затем начинается кропотливая работа уже в самих партийных коридорах. Отец, как историк, углубляется в изучение эпохи Рублёва и со знанием дела разбивает аргументы противников сценария, шаг за шагом снимая с него обвинения в исторической неправде и антипатриотизме.
Зав. отделом культуры ЦК Поликарпов «сдаётся» под его натиском, но принимать самостоятельное решение не рискует. Отправляет Куницына к секретарю ЦК Ильичёву. Цель Куницына – запустить фильм в производство, получить «добро» на госфинансирование. Ильичёв слушает аргументы и доводы Куницына, но его не слишком волнуют слова «шедевр», «высокоталантливый», да и горячность подчинённого. Он думает о том, что скоро его ждёт уход из ЦК и пенсия. Спрашивает: «Когда будет готов фильм?» Ответ успокаивает: расхлёбывать уже не ему. «Вы берёте вопрос под личную ответственность?» И – подписывает бумаги.
Тарковский начинает съёмки. К этому моменту режиссёра и «партийного продюсера» связывает искренняя дружба. Кстати, есть такой малоизвестный факт. Куницын предлагает Тарковскому «переписать» ключника, которому татары вливают в рот горящую смолу, из грека в русского. Эту роль в фильме потрясающе сыграет Юрий Никулин. Тарковский соглашается – этот эпизод и в самом деле усиливает «русскую тему».
Но наступает 1966 год. Бикфордов шнур дымится в одном мгновении от «отцовского фугаса».
Георгию Куницыну предлагают занять пост министра кинематографии СССР вместо А.В. Романова. К этому времени отцу сорок четыре года, он в самом расцвете сил, высок, красив, синеглаз, его густые волнистые волосы почтительно пропускают вперёд великолепной лепки лоб. Денно и нощно впитывая в себя лучшее из мировой сокровищницы культуры, он превратился в настоящего энциклопедиста, эрудита. И он внутренне свободен, потому что его поступки и убеждения навсегда согласованы с совестью. Е. Евтушенко это точно в нём подмечает: «Такие, как Куницын, разогнувшись однажды, никогда не сгибаются».
Последнее, что успевает сделать Куницын в ЦК, – это принять фильм А. Тарковского «Андрей Рублёв» по высшей, первой категории.
А дальше неизбежное. Он не просто отказывается от должности. Он говорит в лицо «самому» М. Суслову: «Я, словно в школьном классе, стоя, заявил: “Предложенная мне программа будет выполняться не моими руками”». На что М. Суслов передёрнул на носу очки и сказал: «Вы свободны». А ведь угадал, кремлёвский иезуит!
Программа проста, как меню людоеда: она предписывает «разобраться» с «влиятельной группой режиссёров, осуществляющих идеологическую диверсию против партии…» (М. Суслов). То есть именно с теми, кого Куницын все эти годы и опекал.
Через три дня Куницына в ЦК не стало.
На «его» место сел бывший подчинённый Ф. Ермаш, который тут же положил «Андрея Рублёва» на полку. Вплоть до 1971 года.
Но фильм снят! Он существует! Великий фильм Андрея Тарковского, преобразивший не только отечественную киноэстетику, но и мировую. Слава тебе, Георгий Куницын, вовеки! Твоему мужеству и художественному чутью, всей твоей судьбе, предопределившей выбор! Говорю это я, твой сын, вместо всех тех, кто забыл твой подвиг…
И как мне объяснить, что вся твоя дальнейшая судьба, полная житейских невзгод, безденежья, постоянного негласного надзора, – прекрасна?! Ты в мстительной опале, но ты – свободен!
В 1968 году, уже уволенный из «Правды» за то, что единственный (опять единственный!) вступился на редколлегии за Л. Карпинского и Ф. Бурлацкого, Куницын защищает в Институте мировой литературы докторскую диссертацию.