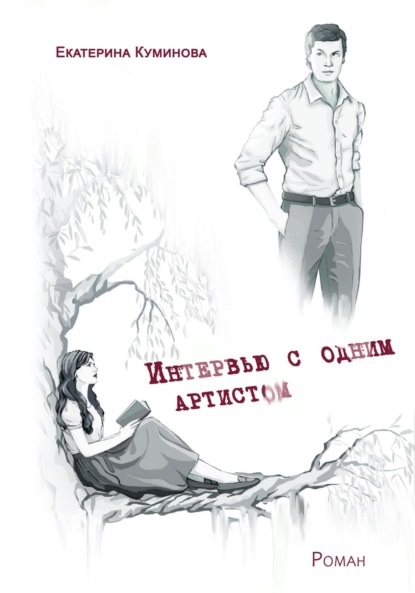
Полная версия:
Интервью с одним артистом

Екатерина Куминова
Интервью с одним артистом
Интервью с одним артистом
роман
Посвящается моим любимым артистам –
недооцененным и недоигравшим на сцене и в кино,
безвременно ушедшим из профессии или из жизни.
А также журналистам, начинавшим
свой профессиональный путь в лихие 90-е,
формировавшим современную журналистику
в жестких условиях дикого рынка и
геополитических конфликтов…
От автора
Все это где-то когда-то с кем-то происходило. Роман основан на реальных событиях и у героев, безусловно, есть прототипы, причем во множественном числе. Такие образы называют собирательными. Поэтому прошу не принимать эту историю за чье-то жизнеописание: любые ассоциации с конкретными людьми будут ошибочны. Также являются случайностью возможные совпадения названий и имен собственных.
Действия происходят в начале 2000-х годов.
Главные герои – представители двух творческих профессий, – актерской и журналистской, хорошо зарекомендовавшие себя в начале карьеры и потерявшие себя в новых реалиях. Они из разных поколений, но их объединяет прежняя, советская этика и невозможность реализовать свой творческий потенциал в постсоветское лихолетье.
Каток 90-х прокатился по их судьбам одинаково разрушительно. Центральной линией, скелетом повествования, является тема отцов и детей. Не случайно сюжет романа начинается с отсылки к нетленному произведению А.С. Тургенева. Здесь эта вечная тема представлена в ракурсе реалий конца ХХ – начала ХI вв., периода «сексуальной революции», слома традиционных устоев и целых институтов – брака, семьи, принципов воспитания детей, материнства и отцовства.
Конец 1980-х, начало 1990-х – были пиком самого безответственного в новейшей истории нашей страны отношения к детям, к молодежи и к семье. Такое понятие как любовь снимается с повестки, объявляется эфемерным, а ответственность мужчины за судьбу женщины становится моветоном, и даже чем-то неприличным (привет феминисткам). На этом фоне основная жизненная драма главного героя (артиста Евгения Журбина) связана с его отцовством, к которому он стремился, но не мог реализовать из-за собственного идеализма и внутреннего конфликта ценностей – супружеской верности и стремления стать отцом.
И все же, если вернуться в те времена, когда происходят описываемые события, то мне особенно сильно хотелось рассказать, как в изменившейся глобальной реальности людям удавалось не потерять, найти себя заново, придумать собственную модель профессиональной самореализации, если не удавалось вписаться в «мейнстрим». Ну, и конечно, еще раз про любовь, куда ж без нее – любовь же от искусства неотделима.
Вторая тема романа – великая, мистическая сила искусства, формирующая личность, стигматизирующая наше восприятие, закладывающая в нас идеалы. В сущности, наша ментальность состоит из услышанных перед сном сказок, прочитанных книг, любимых мультфильмов, фильмов и спектаклей. Если бы главная героиня, прочитавшая в 12 лет «Отцов и детей» А.С. Тургенева, не была до глубины души потрясена судьбой Базарова, возможно, не обратила бы внимания на артиста, сумевшего изобразить его на съемочной площадке точно таким, каким она себе его представляла. Журбин для нее, изначально – это Базаров, в которого она влюбилась в детстве, читая роман, его наиболее успешная, с ее точки зрения, реинкарнация. Он полностью соответствует идеалу мужчины, заложенному в ней русской классикой. И это близкое по смыслу прочтение его образа мистически соединило главных героев.
Но ментальная общность, близость людей и те ориентиры, по которым они находят друг друга, определяются не только единым образованием и культурой. Что-то общее должно быть в генетической памяти людей, чтобы их так крепко притянуло друг к другу, что не разорвать, словно две половинки одного целого. Журбин – потомок волгарей, кораблестроителей, Ивашова – по материнской линии потомок мариупольских кораблестроителей… во время их поездки в Орловку на Волгу эта мистическая связь дает себя знать.
Мне невольно захотелось продолжить тему, сформулированную великим писателем, в виде истории любви юной студентки-журналистки Татьяны Ивашовой и зрелого женатого мужчины, артиста и ее кумира Евгения Журбина, у которого никогда не было и могло вовсе не быть детей, если бы не эта греховная связь с его юной поклонницей. Не удержалась от некоторой мистификации, суть которой – не что-то сверхъестественное, а причуды человеческой психики. Я говорю об идее стигматизации артистов образами, в которых им приходится работать. Где та грань, за которой образ становится частью натуры самого артиста? Когда он перестает осознавать, где его герой, а где он сам? И как это может сказаться на его судьбе? В романе этот предполагаемый стигмат трагедии Базарова, которую артист Журбин пропустил через себя и тем самым в какой-то мере отравил ею собственную «карму», разрушает сон Татьяны, который мистическим образом они видят вместе.
Вслед за этим пара проходит свое собственное чистилище: артист по сфабрикованному обвинению попадает в следственный изолятор, а Татьяна пускается в неравную борьбу за него, бросает вызов системе и могущественной преступной группировке. В результате этих перипетий оба теряют работу, становятся аутсайдерами, изгоями для той элиты, которая на момент событий управляет искусством и масс-медиа. Пройдя через испытания, они возвращаются каждый в свою профессию с бесценным опытом, ясными целями и высокой мотивацией.
Фильм «Базаров», который становится отправной точкой сюжета – это не одна из пяти существующих экранизаций романа «Отцы и дети» А.С. Тургенева. Это – самостоятельное кинопроизведение, сфокусированное на фигуре Базарова. Его сценарист добавляет в фильм детали и подробности, которые не прописаны в романе, но невольно угадываются, достраиваются воображением читателя.
Журналистка Татьяна Ивашова – прежде всего, читатель романа Тургенева. Сюжет его и трагическая судьба Базарова превратились для нее в настоящий незавершенный гештальт. В детстве она предавалась мечтам о том, как становится участницей событий этого романа и спасает Базарова, в которого была влюблена детской идеалистичной влюбленностью. Вероятно, определенный гештальт сложился и у артиста Евгения Журбина, прожившего в ходе съемок жизнь Базарова и «умерший» вместе с ним. Возможно, это и сводит их, создает почву для взаимного притяжения.
Пролог
Москва, 2003 г.
Поздняя осень, моросящий дождь. Провожающих на Троекуровском кладбище собралось немного. Хоронили артиста, покончившего с собой.
Церемония продолжалась недолго: гроб был опущен в землю, крест и венки установлены, цветы возложены, речи произнесены. Те немногие, кто пришел проводить малоизвестного артиста в последний путь, уже изрядно промерзли. Процессия начинала расходиться.
Евгений Журбин – высокий, стройный мужчина за 40 в черном плаще и Владимир Косов, немного моложе, чуть лысоватый кудрявый блондин среднего роста, коренастый, мягкий, в очках – шли в стороне от других и курили.
– А ты когда в последний раз видел Влада? – Спросил Косов.
Журбин пожал плечами, с мрачным выражением лица выпуская дым в сторону, чуть слышно ответил:
– Не помню. Он как-то звонил в начале лета.
– Что говорил?
– Да что говорил… Ничего особенного, то же что и у всех: ролей нет, предложили сниматься в каком-то криминальном сериале – не пошло, то ли заболел, то ли запил… – Журбин с досадой отшвырнул окурок.
– Да, алкоголизм – наша профессиональная болезнь… В каком-нибудь театре он служил?
– Нет… что-то не сложилось в Современнике, решил сосредоточиться на кино.
– Одним кином сыт не будешь… – поежился Косов, глубоко вдавив руки в карманы кожаной куртки.
– Тем более таким как сейчас, – заметил Журбин.
– Дело возбуждать не стали, – присоединился к разговору еще один коллега, – он вроде записку оставил.
– Ну да, только там сумбур какой-то, – тихо заметил Косов. – Чьи-то рукописи, кто-то ему звонил по ночам… наверное, должен кому-то. Был.
– Милиция разберется, – буркнул Журбин тоном явно ироническим.
Несмотря на внешнюю отстраненность собеседников, было понятно, что трагедия, случившаяся с артистом Юровским, касается их самым непосредственным образом. Версия самоубийства коллеги, находившегося несколько лет в бедственном положении, сомнений почти не вызывала. Каждый из них хотя бы раз одалживал ему денег, не очень надеясь получить их назад, и не имея возможностей помочь ему с работой. В актерской профессии, как ни в какой другой, от таланта, трудолюбия и добросовестности самого артиста зависит слишком мало. Слишком многое в его судьбе решают неформальные связи, субъективные представления и вкусы режиссеров, художественных руководителей и продюсеров, объективные же критерии в искусстве весьма условны и имеют вес только в учебных аудиториях.
Каждый из них в любой момент мог оказаться в ситуации, приведшей к гибели их товарища, с которым когда-то Журбин заканчивал театральное училище, делал первые шаги в профессии, вместе с которым радовался первым успехам.
Одновременно с этой частной трагедией, что-то назревало и в театре, где служили Журбин и Косов, что в одночасье поставит под вопрос значительную часть труппы. И от этого невозможно было устраниться, это нельзя было предотвратить, поскольку такова была объективная реальность: вслед за сломом идеологии, определявшей бэкграунд советского искусства, на российскую постсоветскую культуру навалился тяжелый, разъедающий декаданс, в нее как мицелии спорыньи стремительно прорастал рынок. Главенство советской цензуры в искусстве неотвратимо сменялось главенством коммерции. Любой спектакль или фильм теперь мог появиться на свет только при одном условии: если у него был достаточный коммерческий потенциал, в основе которого – соответствие запросам общества, а оно, по мнению новоявленной армии продюсеров, запрашивало секса, глумления над святынями и кровавых побоищ. Людей перестали интересовать глубинные механизмы взаимоотношений между людьми, в социуме, и уж, конечно, вопросы государственного строительства: все, что касалось коллективных интересов, высмеивалось в угоду личностных. Идеологией общества стали эгоцентризм и потребительство.
Примерно то же самое происходило в литературе и в журналистике. Вся сфера масс-медиа превратилась в бездонный, мутный рынок, похожий на Черкизон1. Юровский, Журбин, Косов и многие другие люди искусства не желали участвовать в этой «порнографии», но как им жить дальше – не знали.
Новые формы
В Московском муниципальном классическом театре решили вывести из репертуара постановку «Горе от ума», которая шла в нем 40 лет. Последние 15 лет в ней играл Чацкого артист Евгений Журбин, или ЖЖ – как его иногда между собой называли коллеги. Одновременно с этим его переводят во второй состав актеров спектакля «Отцы и дети», где он почти столь же долго играл Базарова. Теперь он там участвовал в роли Павла Петровича. Причина банальна: Базаров – молодой человек, а Журбину уже 48 лет. В первом составе господина нигилиста теперь играл 23-хлетний хипстер Гарик – субтильный невысокий юноша с коротким зеленым ежиком на голове и бриллиантовыми «гвоздиками» в ушах, которые он не снимал даже на сцене. Гарик пришел в театр из какого-то модельного агентства, его фотографии с рекламой гламурных шмоток, на которых он позирует в утонченном образе денди с налетом транссексуальности, регулярно украшают глянцевые журналы.
Булгаковский «Бег» отдали на переделку приглашенному режиссеру из Литвы Стасу Крутику, который сразу же потребовал около 15 млн. рублей на новые декорации и на всякий случай переименовал спектакль в «Исход».
Режиссер решил развить и усилить в спектакле тему проституции среди русских эмигранток в Стамбуле. Для этого ему необходимо было соорудить на сцене огромный стеллаж с полками-этажами, на которых, держа горящие красные фонари и рискуя сорваться вниз, должны вытанцовывать голые статистки в черных чулках и алых лабутенах с ценниками на алых передниках, чуть прикрывавших выбритые лобки.
Хлудову, которого в «Исходе» играл Журбин, теперь надлежало изнасиловать Серафиму Корзухину и вообще удерживать ее в сексуальном рабстве большую часть спектакля. По версии Крутика, Хлудов не просто спятил от хаоса гражданской войны, а был конченным морфинистом, отчего с ним приключались не только безобидные тихие галлюцинации (сцена с летающими гробами, реализация которой по первым прикидкам требовала около 5 млн. рублей), но и буйные психозы, во время которых он собственноручно и с особой жестокостью убивал как подозреваемых в большевизме, так и своих подчиненных – душил, кромсал ножом и шашкой, и, конечно, вешал. Иногда сначала вешал, потом кромсал. Это в свою очередь вызвало психоз у Журбина и однажды на репетиции после короткой дискуссии о новых смыслах и формах он чуть не заехал Крутику по физиономии.
– …Если ты стал моим спутником, солдат, то говори со мной. Твое молчание давит меня, хотя и представляется мне, что твой голос должен быть тяжелым и медным. Ты знаешь, что я человек большой воли и не поддамся первому видению. Пойми, что ты просто попал под колесо и оно тебя… – держа в одной руке свернутый в трубочку обновленный сценарий пьесы, а другой кутаясь в шинель, Журбин стоял посреди сцены и почти уже закончил реплику Хлудова, когда его прервал режиссер.
– Евгений Иваныч, ну не то! Вы что, текст забыли? Вы к репетиции готовились? – Маленький человечек в клетчатых брюках, кожаной жилетке и в шарфе, удавкой охватившем его почти отсутствующую шею, вскочил с кресла в первом ряду партера и судорожно схватил свой экземпляр сценария.
– Я не понимаю этого текста, я не знаю, как это играть, – Журбин швырнул трубочку из сценария на стол, стоящий на сцене. – Пока на всякий случай вернулся к исходнику.
– Ну… вы… вы поймите, вы прочувствуйте: Слащев был психопат! Наркоман! Кровавый маньяк. Только такой человек, пройдя ад, мясорубку гражданской войны, пролив море крови, мог, в конце концов, принять власть большевиков и служить ей!
– Кто-о? – Глядя на человечка в удавке с высоты сцены и собственного немалого роста, презрительно протянул Журбин, – какой Слащев?
– Ну что вы… ну что вы… не знаете кто такой Слащев, помилуйте, ну как же вы… ну… ну как же вы… столько лет играли Хлудова и не знаете, – затараторил, заикаясь, Крутик. – Прототип вашего героя, белогвардейский генерал…
– Я знаю, кто у нас прототип Хлудова, – сел на корточки на краю сцены Журбин. – Просто я играю не прототипа, а героя булгаковской пьесы. Хотите ставить спектакль про маньяков – ставьте, я что, мешаю? Если мы ставим «Бег», то играть я буду Хлудова, а не Слащева. Про маньяков и людоедов делайте отдельную постановку, без меня.
– А Хлудов кто – не людоед? Евгений Иваныч, ну простите… ну простите, – Крутик покрылся испариной, – это вот сейчас, когда уже получены все визы в Минкульте, с вашей стороны, простите, просто непрофессионально это с вашей стороны…
– Чтооо? – Журбин спрыгнул со сцены и стремительно направился к человечку. – А, по-вашему, профессионально – это кривляться, врать, лицемерить и лепить из литературной классики кусок дерьма?
– О-о-о-кей, Евгений Иванович, без вас – так без вас. Завтра же согласуем на эту роль другого артиста… не-не-не надо так волноваться!… – Крутик инстинктивно проскочил между рядами кресел, отрезав противнику путь для прямого наступления.
Исполнитель приват-доцента Голубкова, еще не успевший отдышаться после сцены в контрразведке, попытался преградить путь доведенному до бешенства коллеге со словами «Женька, спокойно, ну его на хер», но вовремя отскочил в сторону. Под хихиканье актрис, ЖЖ догнал режиссера с твердым намерением влепить ему оплеуху, но тот заранее с воплями упал между рядами. Лежачего режиссера артист бить не стал, хотя и еле удержался, чтобы не пнуть его в клетчатую задницу.
Замяли с большим трудом, выплатив драматургу из жалования артиста компенсацию.
В восприятии новых форм и смыслов труппа была неоднородна. «Свежая кровь» вливалась из самых неожиданных мест: телевизионных шоу, модельных агентств и даже гламурных журналов. Зачастую молодое пополнение от происходящих изменений было только в восторге. Театр стремительно превращался в продюсерский центр дешевых антрепризок2.
Сомнительные эксперименты усугублялись тяжелым экономическим положением коллектива: артистам и остальному персоналу театра крайне нерегулярно выплачивали жалованье, многих перевели на полставки, лишали ролей и премий. Впрочем, у руководства деньги водились всегда.
Обновленческие метаморфозы начались после смены руководства театра. Отправив на заслуженный отдых прежнего директора, столичный департамент культуры утвердил в этой должности успешного коммерсанта Бориса Гурского, обещавшего вывести театр на самоокупаемость и прибыль. Новый директор был давно знаком с завхозом театра, выжигой Сергеем Скунцевым, которого, недолго думая, назначил художественным руководителем.
Евгений Журбин был несколько странным артистом. Для артиста он, пожалуй, был слишком закрытым, непубличным и совершенно «нетусовочным». Жизнь его состояла из работы и дома. Ни о каких интервью, ток-шоу, ковровых дорожках и прочих публичных мероприятиях Евгений Иванович даже слышать не хотел. Это крайне удивляло его окружение: стройный, интересный, привлекательный, неординарный – в нем было все, что нужно для славы, для экрана, для крупного плана, для благосклонности продюсеров киностудий и телеканалов и, наконец, для бешеной популярности и обожания публикой. Особенно недовольна была его супруга Лариса Анатольевна Добруч – ведущая актриса этого же театра. Она недоумевала, почему ее муж не стремится напоминать о себе кинопродюссерам и режиссерам, не добивается получения ролей в кино – при более чем скромном жаловании в театре и с каждым годом тающей его востребованности в нем было просто жизненно необходимо искать дополнительные заработки. К этому моменту Евгений Иванович не снимался в кино уже 13 лет! Он объяснял свою пассивность тем, что нормальное кино как раз 13 лет назад и закончилось, сниматься все равно негде, так что нечего и напоминать о себе. Это разногласие у них в семье стало уже традиционным поводом для ссор. Особенно бесило Ларису, когда Евгений отказывался от поступающих предложений сняться, произнося при этом одни и те же эпитеты, вызывающие у нее настоящую аллергию: «кусок дерьма», «киношняга», «херомань» и еще несколько нецензурных выражений. Супруги неделями могли не разговаривать, хотя когда-то, еще в училище, и потом, в первые годы театральной службы, у них, кажется, была любовь. Свою серебряную свадьбу они встретили в теплой дружеской обстановке: Евгений пил пиво дома у Косова, а Лариса поехала с подругой на неделю в Египет. Детей у этой звездной пары не было.
Каждый раз, когда Журбин слышал в свой адрес слово «странный», он повторял известную реплику Чацкого: «Я странен, а не странен кто ж, тот, кто на всех глупцов похож?»
Собрание в театре
Открытое собрание коллектива театра в зале его малой сцены шло уже третий час, а накал дебатов не спадал. У многих уже возникло подозрение, что никакой резолюции сегодня принято не будет. А значит, Минкульт не получит оснований для принятия организационных решений.
Журналистка Татьяна Ивашова устала щелкать тугой кнопкой диктофона, то включая запись, то ставя ее на паузу. Уже была исписана почти вся кассета, но для статьи сгодится от силы десятая часть, тем более что материал надо отправить в редакцию уже сегодня. Кроме того, устали ноги в полусапожках на высоком каблуке и ныла спина: ораторы выступали без микрофона, и чтобы запись получилась разборчивой, ей пришлось встать как можно ближе к президиуму, расположенному на сцене: свободных мест в первых рядах партера уже не было. Аналогичной была участь и других журналистов, приглашенных на это мероприятие. Кто-то сидел на полу, кто-то облокотился о край сцены, разложив на нем аппаратуру.
За этим конфликтом писаки и снимаки следили уже давно – тут были и громкие увольнения, и открытые письма, и интервью, а сегодня ожидалась долгожданная развязка: судя по присутствию в зале самого замглавы столичного Минкульта, должно быть, наконец, принято какое-то решение, которое внесет определенность в ситуацию. Вот почему в зале собралось так много журналистов известных изданий, в числе которых и Татьяна – журналистка электронной газеты «Москва нон-стоп».
Главная претензия к руководству у коллектива – растущая задолженность по зарплате. И журналистам, и труппе было известно, что за последние три года Минкульт выделил на развитие театра более 150 млн рублей, но никаких изменений к лучшему, кроме косметического ремонта здания и закупки компьютеров для администрации, в театре никто так и не заметил.
Помимо претензий по зарплате, многие артисты выражали недовольство изменениями репертуара. Мало того, что постепенно были уволены почти все режиссеры, включая молодых, а на их место на срочные договора приглашены какие-то гастролеры, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, так еще и немалая часть заслуженных, и даже народных артистов оказалась на скамейке запасных – то есть во втором составе исполнителей, в то время как предпочтение отдавалось новоявленным посредственностям.
Журбин выступать с речами не любил, хотя и умел. Он обладал редким даром емко, хлестко и доходчиво формулировать свои мысли. Выбери он профессию военного, как его брат, из него мог бы получиться отличный командир.
– …а если кому-то неймется реализовывать себя в порнографическом жанре, то пусть отдельно от ММКТ учредит какой-нибудь «Московский эротический театр имени Содома и Гоморры» и заберет с собой наиболее прогрессивную часть труппы. – Вещал Журбин под одобрительные аплодисменты и смех коллег. Назвав вещи своими именами и призвав Минкульт немедленно провести в театре финансовый аудит, Евгений Иванович отправился на место – к группе единомышленников, занимавших пятый и шестой ряды партера. Вдруг взгляд его зацепился за Татьяну. Молодая симпатичная журналистка стояла в проходе, прислонившись к борту нижней ложи и обнимая планшет с закрепленным на нем пухлым блокнотом.
Артист, слегка оцепенев, остановился рядом и тоже прислонился к ложе. Журналистка как будто не замечала его, чуть отвернув голову. Раздумывая, как лучше поступить, Журбин окинул взглядом зал и снова посмотрел на нее в упор. Татьяне ничего не оставалось, как ответить ему взглядом.
– Здравствуй, Таня… – тихо произнес Журбин, глядя ей в глаза. – Ты не узнала меня?
– Здравствуйте, Евгений Иваныч.
– Почему по отчеству и на вы…?
– Исключительно из уважения, – грустно улыбнулась журналистка и снова отвела взгляд.
Журбин, пораженный неожиданной встречей, задумчиво блуждал глазами по залу. Там его коллеги атаковали эпитетами президиум, который отстреливался тем же, но менее успешно. На задних рядах уже весьма безразлично наблюдала за баталией разночинная зрительская аудитория: нейтральная часть труппы, журналисты, представители Минкульта.
– Давно не виделись… Сколько же лет прошло?
– 13, – не задумываясь, ответила она.
– Значит, ты все-таки в рядах пишущей братии… выглядишь бесподобно!
– Спасибо.
– Ну, конечно, замуж вышла, дети…?
– Да, все успела, – теперь уже Татьяна блуждала глазами по залу, ища, за что бы зацепиться. – И даже больше.
– А больше – это что?
– Например, развестись… – Ей стало сразу неловко, от этого «развестись». Слово сорвалось с ее уст нечаянно: какое-то ужасно одинокое, изголодавшееся по сильному плечу существо внутри нее предательски бросило его, словно белый флаг… Гордая Таня от этой своей оплошности испытала досаду, и даже глазам стало чуть горячо от надвигающихся слез. Она замолчала, пытаясь мобилизовать в себе остатки самообладания.
Журбин стоял так близко, что Татьяна вновь, как 13 лет назад, оказалась во власти его непреодолимого магнетизма. В один миг в памяти ее всплыло все, что чувствовала и думала она рядом с ним тогда. Ее уверенность в себе, знание жизни и людей, нажитая за годы защитная броня от сердечных ран, вмиг рухнули, и она вновь превратилась в 20-летнюю девочку, похожую на Дашу из «Хождения по мукам», – наивную, открытую и пылкую, ждущую любви и влюбленную тайно в какого-нибудь кумира… Кем же она грезила тогда, перед самой встречей с Журбиным на съемочной площадке художественного фильма «Базаров» – очередной экранизации тургеневских «Отцов и детей»? Кажется, знаменитым ленинградским журналистом Александром Неверовым… и, конечно, на этой почве горела мечтой стать журналисткой. Но летняя подработка в качестве помощника сценариста на съемках фильма, куда ее устроили друзья из московского горкома комсомола, очень скоро заставила ее напрочь позабыть о звезде вечерних теленовостей.

