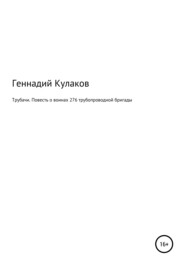 Полная версия
Полная версияТрубачи. Повесть о воинах 276-й трубопроводной бригады
В самом Чарикаре было несколько постов, о которых мне стало известно по ходу службы в этом районе. На окраине города, ближе к предгорью, стоял пост десантников, которые охраняли губернатора. Ближе к центру, в отдельном здании, находился пост пехоты, старшим на посту был лейтенант Саша, выпускник Московского Краснознаменного высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР. У него были свои воспоминания о событиях в Пандшерском ущелье в мае 1982 года. Пехота полезла на гору, а там моджахеды, начался обстрел. Саша каску надеть не успел, и пуля продырявила панаму в двух местах. Теперь она занимала почетное место над кроватью лейтенанта. Повезло. Слова Саши: «Она мне жизнь спасла, теперь буду хранить как талисман».
Из открытых источников мне попались воспоминания полковника Быкова В.Ф., по всей видимости того самого, с которым мне было суждено встретиться в первые дни эксплуатации нашего участка трубопровода.
Из воспоминаний участника тех событий, руководителя советнической группы при командовании царандоя (милиции) провинции Парван (1982-1983) полковника В.Ф. Быкова (документальный очерк «Под Баграмом»):

«В начале октября 1981 года составом группы работников системы МВД СССР я прибыл самолетом в Кабул. Спустя месяц после прилета был командирован в город Газни…
В феврале 1982 года получил назначение руководителем советнической группы МВД СССР (где проработал 20 месяцев) провинции Парван. Она расположена севернее Кабула, ее центр – город Чарикар стоит у автотрассы, ведущей от Советской границы до столицы ДРА. Область известна многим советским военным крупнейшей в Афганистане авиабазой Баграм, высокогорным перевалом Саланг, а также Панджшерским ущельем.
Важное стратегическое положение провинции, наличие сильного, хорошо организованного активного партизанского движения обусловили присутствие здесь значительных советских сил: штаба мотострелковой дивизии, подразделений двух ее полков, отдельного парашютно-десантного и саперного полков, батальона охраны Баграмской авиабазы, авиационных частей, обслуживающих их подразделений.
Глава 8. Будни трубопроводчиков
Зимой в горах Афганистана был снег, а в долине – слякоть, настроение тоже было как-то не очень. Если была работа, то делали, если не было перекачки, то приходилось загружать бойцов работой: чистить оружие, обсуживать станцию или затеять большую стирку, кипятить постельное и нательное белье, готовить баню, наводить порядок на территории. Если передышка затягивалась на несколько дней, то можно было приступать к чему-то более грандиозному, например, соорудить камин или печку в спальном помещении, а может быть и построить на заднем дворе баню. Идея сделать что-то полезное зрела давно, но как-то все не доходили руки. Помывочную за забором, совмещенную с туалетом, сложно было назвать баней. Вот на ГНС-47, где комбат Зверев соорудил баню для своих артиллеристов, то была хорошая баня.
На нашем посту периодически кто-то жил. Неделю у нас обитали автомобилисты, которые добирались на попутных машинах до Кабула, но, похоже, не спешили к себе в часть. Как-то жил представитель военторга с водителем. Понравилось ему у нас. У него товара была полная машина, уже темнело, перевал завалило, попросился на ночлег, это ведь лучше чем на дороге мерзнуть в кабине автомобиля, экономя топливо. Ну, что делать, конечно, разрешили остаться. Продукты у них были свои. Так жили они у нас три дня, пока движение на перевале не восстановилось.
В один из таких дней на посту появился строитель из числа гражданского персонала. Его часть находилась под Кабулом, в местечке Теплый Стан, и он возвращался из командировки Пули-Хумри. Звали его Виктором. Одет он был в обычную армейскую форму без погон, для солдата срочной службы был староват. Как и все, кто появлялся у нас, Виктор показал нам служебное удостоверение, командировочное предписание и на мой вопрос, кто у них в строительной бригаде работает начальником службы горючего, ответил, что это старший лейтенант Игорь Карамануца. Совпадений таких не бывает, на диверсанта он не был похож, ну а ладно, живи, консервов много.
Через два дня Виктор освоился и, узнав нашу затею построить камин, предложил свои услуги. Я выделил ему двух помощников, кто будет кирпичи подавать и раствор замешивать, и Виктор приступил к работе. Кирпичи были старые, но достаточно крепкие (остались от старой застройки за забором), глина под ногами (чем не строительный материал?), вода рядом. За два дня камин вырос до потолка: «Ну что, командир, прорубаем потолок, трубу надо выводить». Надо так прорубаем. Известь и дранка посыпались с потолка, как ни старались, пыли было много. Пришлось устраивать внеочередную уборку спального помещения и встряхивание одеял. К исходу третьего дня камин был готов. Задняя стена была стеной соседнего помещения, кладовой, сам камин даже чем-то походил на камины в старых домах при царском режиме.
Когда камин был готов, наступил самый торжественный момент, протопить его. Дров было немного, но на одну-две растопки вполне хватало, и страсть как захотелось испытать: получилось или нет, будет дымить или нет. Как выяснилось, Виктор камин делал второй раз в жизни. Первый опыт был на собственной даче, не совсем удачный, так как переделывал два раза.
Выдержали сутки, чтобы глина немного подсохла, и, сложив дрова домиком, поднесли спичку. Пламя медленно стало разгораться от щепочке к веточке, от веточки к сучку и постепенно перешло к полену. Огонь становился все ярче и ярче, дыма не было, от кирпичей шел немного пар, комната стала наполняться теплом. Потрескивание дров становилось все отчетливее, уже начали падать на пол мелкие угольки из камина, огонь постепенно заполнил все пространство камина, на стенах топки стала появляться копоть.
Виктор улыбался, работа удалась, надо бы подбросить дров, да с этим как раз и была проблема. На одну топку еще могли набрать, и то еще следовало пилить и колоть бревно единственно оставшееся от последнего выезда в кишлак за дровами. Вроде бы ничего серьезного не произошло, но от появления камина в помещении как-то стало по-домашнему тепло, как от огня, так и от улыбок на лицах бойцов.
В середине января 1983 года после отпуска по болезни в роту вернулся Игорь Павлов. Он не выглядел абсолютно здоровым человеком, заостренные черты носа и подбородка, впалые глаза – болезнь явно наложила отпечаток на его лицо. Тиф, а потом и «желтуха», просто так не проходят. Разговоров, конечно, было много, как оно там, в Союзе, там ведь совсем другая жизнь. Игорь был в Ульяновске, съездил в Куйбышев, был в гостях у моих родителей и передал гостинец от матери – банку варенья из черной смородины и письмо. Игорь долго отказывался брать варенье, но доводы родителей оказались убедительными. Писем от меня они не получали уже более двух месяцев и, конечно, очень переживали.
С письмами существовала отдельная проблема, они не доходили до нашей роты уже достаточно долго. Вся почта поступала в штаб 40-й армии города Кабул. Оттуда перевозилась частично на самолетах/вертолетах до аэродромов, дальше до частей на автомобилях, а дальше от КП бригады до батальона и дальше в роту. Все бы ничего, если бы ни зима. Где-то через полгода, до нас долетела новость, что почтальон топил письмами печку, ему на перевале было холодно, а там дров почти никогда не бывало. Вторым объяснением задержки писем было, то, что их подвергали проверке со стороны госбезопасности. Возможно, это было правильным решением, но письма не доходили, а других способов связи для нас просто не существовало.
Родители не сразу поняли, что мое место службы не совсем ТуркВО. Первое подозрение вызвало то, что парадную форму и шинель я отправил из Ташкента в Куйбышев на их адрес. Через месяц поняли, что письма приходят с полевой почты в/ч 38021, а это значило, что часть за пределами Союза. Хотя ни слова в письмах не было о том, что нахожусь в Афганистане, подозрения еще больше усилились. Ну а когда через два с половиной месяца моей службы не понятно где письма совсем перестали приходить, и так на протяжении почти двух месяцев, тут, конечно, сложно не заволноваться. Родители написали письмо Министру обороны с просьбой сообщить, где находился сын и почему от него не было писем. Обстановку прояснил Игорь Павлов, придя в гости к родителям в начале января 1983 года со словами: «Не переживайте, ваш сын жив и здоров, мы с ним служим в одной трубопроводной роте на соседних участках в Афганистане». Понятно, что «радости» у родителей было много.
Забегая вперед событий, расскажу: из Министерства обороны через месяц после написания письма, в адрес родителей пришел ответ, что их сын проходит службу в Ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане в в/ч пп 38021. Примерно в это время или чуть раньше комбат спросил, почему я не пишу родителям и почему ему пришлось оправдываться перед начальником политотдела бригады за меня. Мои доводы, что писем не получал почти три месяца его не убедили, сам виноват и точка.
Рассказы и впечатления Игоря Павлова каким стал Советский Союз после смены руководителя, об увиденном в отпуске и о моих родителях был чем-то запредельным для понимания. Как так, всего-то каких-то без мало пять месяцев, а сознание поменялось о жизни в целом и ее значимости, о событиях которых произошли за это время. После рассказа Игоря снова хотелось задать вопросы: «Что мы здесь делаем, для кого и для чего? Нам что не жалко людей, техники, ресурсов, которые мы здесь расходуем? Кого мы здесь защищаем, граждан нашей страны, которые даже не знают, чем мы занимаемся и что здесь происходит?». Вопросы остались без ответов.
Возвращение Игоря к исполнению своих обязанностей через три месяца после болезни и отпуска, было для меня передышкой. Обслуживать трассу от Саланга до Баграма приходилось в урезанном составе, и мне, как единственному взводному трубопроводчику, сложно было успеть везде. Павлов вернулся на свой участок, а меня опять отправили в сторону Саланга. Снежные завалы на перевале периодически повторялись, а после них дорожная техника задевала трубопровод, очищая дорогу.
Опять начались перебои в работе трубопровода от Саланга до КП роты – 45 ГНС и упреки со стороны командования батальона и бригады о нашей работе. ПАК под руководством ротного Алексей Макеева, меня и Сергея Петрука с личным составом двух гарнизонов и привлечением дополнительной бронетехники вновь отправилась к перевалу. Борьбу со снежными завалами мы проигрывали. Отрывая очередной участок трубопровода и проверяя наличие топлива в трубопроводе, убеждались, что керосина в трубе нет и нужно копать дальше. Автоматы за спиной, в руках лопаты, и так, сменяя друг друга, медленно и уперто мы раскапывали заваленный снегом трубопровод. За два дня устранили несколько пробитых труб, откопали значительную часть трубопровода, проложенную вдоль обочины, и продвинулись в своих поисках до открытой галереи в десяти километрах от Северного портала перевала Саланг. Связи в горах у нас не было, и лейтенант Сергей Петрук – командир взвода связи, передвигаясь от нашей ПАК до КП роты и обратно, информировал о состоянии дел в роте, сроке начала очередной перекачки топлива, а также привозил продукты и воду. Каждый тянул свою «лямку» и не ворчал, что тяжело.
От открытой галереи трубопровод был проложен на некотором удалении от дороги, это обнадеживало, что снегоочистительная техника трубу не повредила. Макеев принял решение вернуться в гарнизон и ждать начала перекачки. Наша «прогулка» по горным заснеженным дорогам на этот раз завершилась без происшествий. По прибытии на КП роты Макеев доложил о готовности к приему топлива, чем взял на себя ответственность за принятое решение. Люди без малого трое суток были на ногах, сильно устали, и если бы вдруг топливо не дошло, все равно появлялась передышка часов 10–12, а это давало возможность восстановить силы.
Начало перекачки совпало с прибытием на КП роты комбата майора В. Цыганка, комбрига полковника В.И. Мемеха и группы сопровождения из трех человек. Командование проехало по всей трассе и, возможно, имело представление о нашей работе. Короткое совещание комбриг начал со слов: «Мы понимаем, что у Вас далеко не лучшие условия. Горы, снежные заносы, но мы здесь, чтобы обеспечить 40-ю Армию топливом. По всей трассе получается прокачать топливо, и тоже есть сложные участки, а у вас «просто беда». В ответ молчание. Комбриг продолжил: «За последние два месяца я у вас второй раз. В прошлый раз были потери среди личного состава, водитель погиб, сейчас потерь нет, так и топливо не поступает. Совещание окончено, ждем поступление топлива».
На следующее утро был запланирован выезд ПАК на трассу, если бы топливо не пришло на наш промежуточный склад. Время от передачи топлива с 44-го ГНС через перевал Саланг до момента поступления на склад 45 ГНС составляло около 4 часов. Подождали до шести часов, топливо не поступило. Комбриг дал команду на выезд. Его БТР был головным, за ним КАМАЗ с трубами и БТР в замыкании. Надо отдать должное Владимиру Ильичу Мемеху – спокойный, уравновешенный, знает, что делает, с таких как он стоит брать пример. Первый забрался на броню, помахал мне рукой: «Взводный, ты со своими бойцами едешь со мной. Остальные за нами». Коротко и ясно. Я забрался на броню, два бойца следом за мной, еще двое с ключами – в БТР. Вперед в горы.
Комбриг молчал, мне тоже говорить не хотелось. БРТ медленно начал подъем. Я смотрел на дорогу и трубопровод. Комбриг не курил, а мне что-то захотелось, может быть нервы, ведь не каждый день ездишь на броннике с полковником, командиром бригады. Закурил, комбриг посмотрел в мою сторону и промолчал. Все и так было понятно без слов, не придет топливо – достанется всем, каждому на своем уровне. Автомобилями через перевал зимой не навозишься, а топливо – это все, это как кровь в жилах, она есть, значит, есть жизнь.
Примерно через час пути по какому-то наитию комбриг дал команду остановиться. Спрыгнули с БТР и почти сразу по характерному запасу керосина и радужному цвету ручья нашли расстыковку трубопровода. Промоина от расстыковки уходила в сторону горной речки и только часть керосина вытекала в ручеек, который и помог найти расстыковку. Наверное, мы бы очень долго искали эту расстыковку труб, с дороги ее не было видно, к горной реке не спуститься. Вот, подумалось, комбриг молодец, есть у него какая-то особенная «чуйка». С расстыковкой пришлось повозиться: очень неудобное было место, часть труб свисала на повороте дороги и, возможно, из-за этого и снеговой нагрузки произошла расстыковка. После дополнительной вставки в трубопровод получилось замкнуть крайний стык, и керосин начал поступать дальше.
Комбриг приказал развернуть нашу немногочисленную колонну по направлению к КП роты, чтобы сопровождать топливо дальше. Почти незаметно, только по уголкам глаз можно было заметить, что настроение у комбрига изменилось на позитивное. Ближе к населенному пункту на обратном пути заметили еще один свищ, явно от мотыги местного жителя. Пришлось менять трубу. Под напором, как и в случае ранее, а это без преувеличения очень сложно. Обязательно кто-то обливался топливом: в трубопроводе давление, последний стык вызвал не просто брызги, а целый водопад, и кто под него попадал, промокал либо по пояс, либо с ног до головы. Лицо и руки еще можно было промыть водой или вытереть тряпкой, а что делать с одеждой, обувью? Вот они, будни трубачей, лето или зима, по-любому плохо. Бойцы все понимали, все-таки опыт постепенно приобретался, и стыковка зимой в горах проходила максимально осторожно, без обливания керосином (обувь не в счет).
Заканчивая с заменой трубы, я наблюдал за комбригом. Сидел на броне, молчал, не вмешивался, не торопил, ему и так было понятно, что трубопровод с топливом, конечно, важен, но бойцы важнее. Закончили стыковки, сложили инструмент, залезли на броню. Через час езды прибыли на КП роты. Макеев подошел к комбригу и доложил: «Товарищ полковник, топливо поступает, на КП батальона доложили. Какие будут указания?». Командир бригады медленно пошел по направлению к командному пункту 2-й роты на базе ГАЗ-66 (нашей радиостанции Р-405), за ним ротный и комбат. Мы выгрузились из БТР и направились в сторону столовой, может быть получилось бы поесть, ведь завтрак был давно, обед пропустили, ужина еще не было. Старшина, видя, как мы бредем по направлению к столовой, закричал: «Подойдите к повару, вам должны были оставить. Если что, зовите меня, что-нибудь придумаем». Повар молча наложил в алюминиевые чашки кашу с тушенкой и налил в кружки полуостывший чай. Вот и хорошо, что не забыли и про нас.
Пока мы ели кашу, появилось командование в полном составе. Ротный послал за мной бойца. Остатки каши я запил уже остывшим чаем и последовал в палатку. Первое, что я услышал при входе в палатку, – голос комбрига. По всей видимости, продолжалось обсуждение, что делать дальше после того как заполнится склад на КП роты. Топливо нужно было как в Баграме, так и в Кабуле. На меня не сразу обратили внимание. Время катилось к вечеру, и если до 17.00 часов мне бы не дали команду убыть на гарнизон, то пришлось ночевать на КП роты, ведь через час танкисты снимались с маршрута охранения дороги.
Ждать решения долго не пришлось. Командир бригады Мемех В.И. повернулся ко мне. Без вступления сказал: «Трассу надо готовить к перекачке. Сегодня будет заполняться склад на 45 ГНС, завтра начнем перекачку в сторону Баграма. Еще планируется колонна наливников на Кабул. Работы хватит всем. Забирай своих бойцов и готовьте насосные и трассу к работе. Береги себя и своих бойцов, спасибо за сегодняшнюю за работу». И вновь кратко и понятно. Я мельком взглянул на комбата Цыганка, который стоял рядом с комбригом, по его гримасе было понятно: «Ладно, живи пока».
Я вышел на воздух, поправил автомат за спиной, собрал своих бойцов, оборудование и сел на БТР. Пока еще было светло предстояло проверить трассу и подготовить насосную к работе. Через полчаса мы уже подъезжали к нашему гарнизону. Попросили танкистов, чтобы еще часик не покидали пост охраны перед Чарикаром. Проехали по трассе, видимых следов протечек не было. Вернулись к себе на 46 ГНС, по рации доложили о готовности к работе.
Три дня я отсутствовал. Вроде бы все было как обычно, но по лицам было видно, что что-то не ладно. Бойцы молчали, и на мои вопросы все ли в порядке как-то отмалчивались. Пришлось дойти до комнаты Федора. Спросил, что случилось. Федор в ответ: «Твои ничего не сказали?». «Нет, – говорю. – Молчат». Федор показал взглядом на стул: «Садись. У нас тут вообще-то ЧП. Мой боец из последнего призыва, месяц как прибыл в Афганистан, подорвался на противопехотной мине. Наступил одной ногой. Ступню оторвало, вторую ногу посекло, сейчас в медсанбате полка. Он вышел за пределы гарнизона и якобы пошел по нужде в место, где трубопровод проложен по водоотводной бетонной трубе под автодорогой. По другой версии его послал туда трубопроводчик – старший сержант Александр Болотников, бывший десантник, чтобы слить из трубы топливо для продажи». Новость, конечно, меня ошарашила. На завтра перекачка была назначена, а тут такие дела. Попрощавшись с Федором, я пошел к своим бойцам.
В спальном помещении уже начинало смеркаться. Болотников сидел в углу на кровати и явно нервничал. Подсел рядом, спрашиваю: «Саша, расскажи, как все произошло? Хочу от тебя услышать правду». Болотников молчал. «Давай выйдем, покурим», – предложил я, протягивая ему «Столичные» сигареты. Вышли, стоим курим. Болотников выкурил половину сигареты, посмотрел на меня: «Если честно, то я не виноват в том, что танкист подорвался. Не я ведь устанавливал там мину. Да и миной эту пластмассу не назовешь, зеленая фигня, как ее в засохшей траве увидишь?». Доля правды в его словах была. Противопехотная пластиковая мина ПФМ-119 «Лепесток», размером почти с ладонь, являлась самой опасным для человека. Она очень жестокая. Гарантированно убить человека 37 граммов взрывчатки не способны, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги.
Опасения Болотникова были понятны. До дембеля оставалось меньше полугода. В мое отсутствие на посту старослужащие грешили тем, что посылали «молодых» сливать топливо из трубы как раз в том самом месте. Расстыковка трубы, самотеком выливалось литров 200, больше было и не надо. За бочку афганцы давали 1000 афганей – хорошие деньги, за которые можно было купить чарас (необработанная смола листьев индийской конопли) или несколько бутылок шаропа. Появление там мины было загадкой. Часто мы подходили к этому месту, проверяя трубопровод, опасений не было. Сам факт продажи топлива – уже криминал, а тут еще и подрыв на мине.
Мне вспомнилась фотография нашего третьего автомобиля КАМАЗ, водителем был рядовой Саша из Ульяновска. На фотографии слева направо: механик-водитель БТР дагестанец Иманмагомедов (с грязными от ремонта БТР руками), в центре монтажник туркмен (Петя хохол), старший сержант Александр Болотников и монтажник узбек Хаджиев (повар). Фотографий сохранилось очень мало, но и по ним видно, что работа у трубачей – не позавидуешь.

Эх, парни, что же вы натворили! Все понимали, что можно, что нельзя. Как же это вышло? Ситуация была не из приятных. Что делать в таких случаях, честно, я не знал. Пострадавшего танкиста было жалко больше всего. Полгода в учебке, месяц в Афганистане – и инвалид на всю жизнь. Дальше разбираться, кто прав, а кто виноват, я не стал. Доложить по радиосвязи открытым текстом было нельзя. Хотелось что-то съесть и лечь спать, если получится, то заснуть. Я попросил Болотникова ничего не предпринимать, чтобы не сделать хуже, а если не знал, как поступить или что сказать –лучше говорить правду, с ней жить.
На следующий день с рассветом началась подача топлива в трубопровод с КП роты. Давление на входном манометре постепенно увеличивалось, пора было включать насосную станцию и нагнетать топлива дальше. Насосная станция ПНУ 100/200 привычно загудела, параметры стали выравниваться, топливо покатилось дальше с нашего ГНС-46 на соседний ГНС-47. Перекачка в этот раз прошла успешно, без серьезных проблем. За двое суток заполнили армейский склад ГСМ в Баграме и склад ОБАТО.
Продукты на посту подходили к концу, и после окончания перекачки мы выехали на КП роты за провизией. Старшина привычным движением отсчитал и отмерил крупы, консервы, хлеба, сигарет, чая, сахара и мне как офицеру две банки сгущенки (типа офицерский паек). Старшина был немногословен, часто отмалчивался, запомнились его крупная ладонь и крепкое рукопожатие. Его перевели к нам из автобата, был контужен, награжден медалью «За боевые заслуги». Это был первый старшина в нашей 2-й эксплуатационной роте. Через полгода службы в нашей роте он был переведен в Союз по замене.
Новостей особых не было, поэтому я получил продукты – и вперед, на трассу. Пока я отсутствовал в гарнизоне, особисты забрали Болотникова, как оказалось, увезли на БТР в расположение 177 мсп. Что делать, мой боец, нужно было выяснять, где он находится, и что с ним. Выгрузили продукты, прыгнули на бронь БТР и поехали в расположение 177 полка. БТР оставили на стоянке, пешком пошли в штаб полка. Дежурный офицер спросил, откуда я такой, не похожий на пехотного офицера «молодец», из знаков различия только шапка с кокардой и полушубок, и подумав немного сказал: «А, ты, наверное, из трубачей». Офицеры полка преимущественно были в бушлатах или черных куртках. Выяснив причину моего появления, он отправил меня в сторону гауптвахты: «Похоже, там твой ̎соколик̎ сидит».
Гауптвахта представляла собой небольшое одноэтажное серое здание, сделанное из кирпичей и покрытое снаружи и внутри плохо оштукатуренной цементной стяжкой. Дежурный по гауптвахте категорически отказался со мной разговаривать и пускать к Болотникову. Уже смеркалось, что делать? Пришлось выдумывать историю, что если он не даст мне сейчас переговорить с моим подчиненным, то потом меня будут долго вылавливать по трассе, а кормить бойца придется за счет пайка их части.
По всей видимости что-то щелкнуло в голове у дежурного по гауптвахте, мне разрешили посещение задержанного, со словами: «Давай, только не долго». Болотников встретил меня стоя. Камера была примерно 4-5 кв. м, с низкими потолками, с решеткой без стекол на маленьком окне. Отопление отсутствовало, освещение было очень тусклым: лампочка над дверью была размером с консервную банку. Саша попросил закурить, хотя в камере курить было запрещено. Первое, что он сказал: «Товарищ лейтенант, вытащи меня отсюда, я здесь замерзну и сдохну». Серый цвет лица и синеватые губы, явно говорили, что в камере за четыре часа боец пал духом. Да и немудрено, условия хуже, чем в тюрьме. По-человечески мне было жаль его, ведь нормальный парень из рабочей семьи, родом из Черкеска, где в 1961 году была расстреляна мирная демонстрация трудящихся (об этом событии мне рассказывал сам Болотников), и служить то оставалось меньше полугода, а такой печальный итог.



