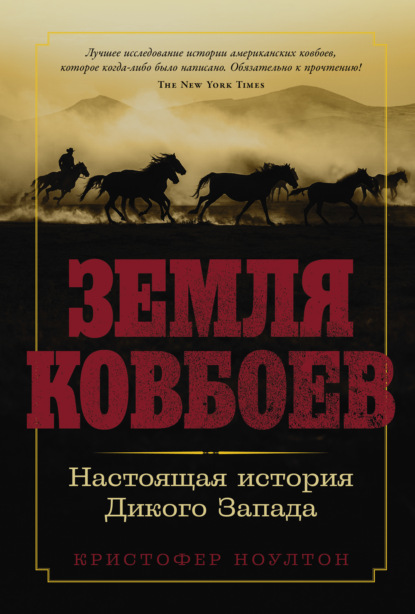
Полная версия:
Земля ковбоев: Настоящая история Дикого Запада
Ничего подобного так называемой Большой царской охоте на бизонов на американской земле уже никогда не произойдет. Всего через три года охотиться на них станет невозможно: бизоны исчезнут.
В течение первых 90 лет существования новой республики большинство жителей Соединенных Штатов воспринимали открытые пространства американского Запада как бесплодную пустошь, не имеющую ни внутренней стоимости, ни экономической ценности. С географической точки зрения ее считали глубокой периферией[28], Великой американской пустыней, пригодной для обитания только «диких» племен индейцев – несмотря на то что ее площадь составляла несколько сотен миллионов акров[29]. Эта огромная территория включала в себя Великие равнины, Высокие равнины, полусухие прерии и предгорья Скалистых гор и простиралась от реки Миссури, по которой в настоящее время проходит граница штата Айова, на запад до Скалистых гор, и от Красной реки, протекающей вдоль нынешней границы Техаса и Оклахомы, на север до Канады. Такое пренебрежительное отношение к просторам американского Запада сохранялось из-за неправильного представления об экологическом разнообразии этих земель и незнания того факта, что здесь водились стада бизонов, насчитывавшие десятки миллионов голов.
Коренные американцы, проживавшие на этих территориях, – около двух десятков племен разной численности – обладали гораздо более разумным взглядом на свои земли и жили в единении с природой и в духовной гармонии с ней. Культура и жизнь многих из этих племен зависели от бизонов, которые служили источником пищи, а также давали материал для одежды, жилья и оружия. При этом связь индейцев с бизонами, возможно, выражалась не просто в пассивном потреблении ресурсов, предоставляемых природой. Вероятно, в течение двух тысяч лет индейцы активно разводили животных на Великих равнинах, рассматривая эту территорию как одно гигантское пастбище[30], находящееся в их владении. Вполне возможно, что они выжигали леса под пастбища, чтобы стимулировать рост травы, которой кормились бизоны; если эта гипотеза верна, то она опровергает популярный миф о том, что во времена заселения европейцами американский Запад был девственно дикой территорией.
Те, кому довелось увидеть гигантские стада бизонов, не могли забыть это зрелище. Самые большие из них, казалось, покрывали обширные долины сплошным черным меховым ковром, соперничая по численности со всеми стадами диких животных, которые люди видели в африканских саваннах. В 1839 г. Томас Фарнхэм, ехавший по тропе Санта-Фе[31], сообщил, что ему потребовалось три дня, чтобы пробраться сквозь стадо бизонов, преодолев при этом 45 миль (72 км). В какой-то момент он видел бизонов на 15 миль (24 км) во всех направлениях, что позволяет оценить площадь, занимаемую стадом, примерно в 1350 кв. миль (3500 км2). В 1859 г. Люк Вурхиз утверждал, что где-то на границе Колорадо и Небраски двигался через скопления этих животных на протяжении двух сотен миль (320 км). А лет десять спустя полковник Р. Додж проехал у реки Арканзас через стадо[32], ширина которого составляла 25 миль, а длина – 50 (40 и 80 км).
Художник Джордж Кэтлин плыл на каноэ по Миссури на Территории Дакота и за поворотом реки столкнулся с одним из таких колоссальных стад, которое переправлялось через поток. Плывущие фыркающие животные фактически запрудили реку. Кэтлин и его перепугавшиеся спутники успели вытащить свои каноэ на берег – еще несколько секунд, и стадо бы их просто раздавило. Долгие часы они ждали[33], пока бизоны пересекут поток, наблюдая, как животные спускаются с зеленых холмов на одной стороне, переплывают реку сплошной массой голов и рогов, а затем галопом поднимаются по откосам на другой стороне. За это время бизоны успели разрушить берег высотой около 5 м, прорезав себе дорогу по обе стороны реки.
Представления белых людей о равнинах и прериях в конце концов начали меняться в связи с бурным экономическим развитием в десятилетия, предшествовавшие Гражданской войне. Этому способствовали крах пушной торговли, обнаружение золота, строительство железных дорог и потоки переселенцев, двигавшиеся на запад по Орегонской и Мормонской тропам[34], а также тропе Санта-Фе. Благодаря бывшим добытчикам пушнины и направлявшимся в Калифорнию переселенцам, которые перегоняли своих быков и коров, к началу 1860-х гг. в западных фортах и форпостах появились первые маленькие стада крупного рогатого скота. Небольшое количество скота разводили владельцы магазинов и торговцы, стремившиеся накормить прибывающих рудокопов и железнодорожных рабочих. Первые скотоводы Запада, такие как Джон Уэсли Илифф – бывший бакалейщик, создавший в 1861 г. рядом с Денвером стадо, чтобы кормить железнодорожников, начали верить в то, что одомашненный скот вполне может выдержать местные длительные зимы и засушливый климат. Если бы это предположение оказалось верным, то скотоводство на открытых пастбищах могло бы принести большие деньги.
Контракты, заключенные Илиффом с железнодорожными компаниями и военными фортами, оказались такими выгодными, что он сумел купить более сотни миль земли вдоль реки Саут-Платт в Колорадо. Со временем его угодья расширились настолько, что он мог неделю ехать в одном направлении, ночуя исключительно в строениях, принадлежавших собственному ранчо. Он стал первым, кто получил прозвище «король скота».
Однако если появляется домашний скот, то конкурирующие с ним на пастбищах бизоны должны исчезнуть, хотя скотоводы редко говорили об этом открыто. Изначально такой исход казался совершенно невероятным – если учесть, казалось бы, бесконечное количество бизонов. Однако за поразительно короткий срок – менее 20 лет – бизоны оказались на грани вымирания, и к югу от Канады их осталось всего лишь 325 особей. Тем временем их место заняли около 5,5 млн голов крупного рогатого скота – поначалу почти исключительно техасские лонгхорны. Один вид крупных копытных животных вытеснил другой почти так же уверенно, как автомобили вытеснили конные повозки. Считалось, что крупный рогатый скот превосходит бизонов в качестве машины для переработки травы в шкуру и мясо, а в конечном итоге – в доллары.
Хотя и кашалот, и калан, и обреченный на вымирание странствующий голубь столкнулись с аналогичной угрозой со стороны жаждущих наживы охотников и бизнесменов, ничто не могло сравниться с массовым истреблением бизонов по численности жертв, проявленной при этом расточительности и скорости приближения животных к вымиранию. Колоссальные усилия людей по их уничтожению привели к ужасающей кровавой бойне. С точки зрения стороннего наблюдателя эта перемена выглядела бы, наверное, как простой экологический трюк: в мгновение ока бизоны исчезли – и на их месте появился крупный рогатый скот.
Этот великий переход, когда на смену одному виду подсемейства бычьих пришел другой, ознаменовал, как пишет историк Ричард Уайт, «превращение равнин, пустынь и гор из биологической республики в биологическую монархию, в которой царил человек, бесполезность низших живых существ была преступлением, караемым смертью, а господствующей ценностью оказалась предприимчивость»[35]. Такое владычество над американским Западом и различными видами обитающих там животных стало возможным с появлением железных дорог.
По мере медленного продвижения Тихоокеанской железной дороги, которую строила компания Union Pacific, через континент, рельсы поделили всю популяцию бизонов на два основных стада – южное и северное. Южное стадо, насчитывавшее около 5 млн животных, исчезло всего за четыре года – с 1872 по 1875 г. Несколько меньшее по численности северное стадо продержалось дольше, но после аналогичного натиска исчезло к 1883 г. Этому способствовало строительство новых железнодорожных линий: они обеспечили легкий доступ к бизонам для промысловых охотников и людей, убивавших зверей ради развлечения.
Руководство железных дорог поощряло такую охоту, надеясь тем самым избавиться от стад, которые часто перекрывали пути и из-за которых локомотивы сходили с рельсов. При встрече поезда с бизонами возникала атмосфера, напоминающая карнавал. Пассажирам предлагали стрелять в зверей из окон вагонов. Подстреленных животных оставляли умирать, и их туши гнили, валяясь вдоль путей. Исчезновению бизонов радовались и телеграфные компании: животные по очереди терлись о телеграфные столбы, и за считаные часы звери могли повалить их[36], нарушив жизненно важную линию связи.
Первоначально промысловые охотники работали в одиночку или парами; они добывали шкуры бизонов для изготовления накидок и одеял. Эта работа была крайне грязной, и статус профессии был настолько низок, что первые скотоводы избегали таких охотников, именуя их «вонючками», поскольку их одежда часто пахла кровью и навозом бизонов. Тедди Блю писал про них следующее: «Охотники на бизонов не мылись и выглядели как животные. Они носили прочную, тяжелую, теплую одежду, никогда ее не меняя. Можно было видеть, как они втроем или вчетвером подходят к бару, запускают руки под одежду и ждут, кто первым поймает вошь, чтобы выпить. Они были все покрыты вшами и гордились этим»[37].
То, что начиналось как кустарный бизнес, вскоре превратилось в полноценную индустрию. Из дубленых шкур изготавливали мужскую верхнюю одежду, добавляя фланелевую подкладку. Еще одним популярным товаром было покрывало для ног. Такими шкурами прикрывали колени во время поездок в санях или карете, однако их использовали и в помещении, поскольку центрального отопления еще не существовало. Лучшим материалом для покрывал считалась зимняя шкура самок, поскольку мех на ней был менее грубым, чем у быков. Вскоре охотники начали специально отстреливать самок.
Окончательно судьбу бизонов решило открытие, сделанное на одной из кожевенных фабрик в Филадельфии. Из сшитых полос бизоньей шкуры получались отличные ремни, которые использовались при изготовлении приводов для стационарных паровых двигателей и другого промышленного оборудования. Практически в одночасье спрос на бизоньи шкуры стал круглогодичным. Для его удовлетворения создавались синдикаты охотников, вооруженных новейшими винтовками, заряжавшимися с казенной части[38].
Затем последовала настоящая кровавая оргия.
Каждый, кто сталкивался с бизоном в дикой природе, подтвердит, что это удивительно смирное животное, которое нелегко вывести из себя. Охотиться на бизонов – все равно что ловить рыбу в бочке. Историк Френсис Паркман в книге «Калифорнийская и Орегонская тропа»[39] описал два наиболее распространенных способа охоты на бизонов. При первом методе – «осторожной охоте» – охотник приближался к стаду тихо, пешком. «Бизоны – странные животные; они настолько глупы и иногда так заняты чем-то, что человек может подойти к ним по прерии совершенно открыто и даже застрелить нескольких, прежде чем остальные задумаются о необходимости удрать»[40]. Ему следовало бы добавить, что такая форма охоты – и не охота вовсе, а настоящая бойня.
Второй, гораздо более захватывающий способ – конная охота – состоял в том, что всадники неслись галопом, настигали стадо, отсекали несколько убегающих животных и стреляли с близкого расстояния. К недостаткам этого способа относились вполне реальная опасность того, что раненый бизон может развернуться и броситься на лошадь и всадника, а также сложность перезарядки пистолета или винтовки во время скачки. Многие охотники для удобства держали во рту по три-четыре пули, что тоже было сопряжено с определенным риском.
Но самую серьезную опасность при конной охоте представляла неровная местность. Охотник-любитель Александр Росс стал свидетелем ужасного происшествия, когда его группа скакала галопом по каменистой равнине, испещренной барсучьими норами. На земле оказались двадцать три лошади с всадниками. Лошадь, которую боднул бизон-самец, погибла мгновенно. Еще две сломали ноги. У одного всадника треснула ключица, другой случайно разрядил ружье и отстрелил себе три пальца, третьего ранило в колено ружейной пулей. Несмотря на все эти неприятности, во второй половине дня охотники вернулись в лагерь с 1375 языками бизонов[41] – единственными кусками мяса, которые они вырезали из убитых животных.
Говорят, что Орландо Браун в 1876 г. за два месяца застрелил 5855 бизонов, то есть примерно по 97 бизонов в день. Буффало Билл Коди утверждал, что за 10 лет своей карьеры охотника на бизонов он убил 20 000 животных.
Во всех охотничьих синдикатах существовало разделение труда. Один из охотников – забойщик – должен был сосредоточиваться на стрельбе; его задача состояла в том, чтобы с безопасного расстояния попасть бизону в легкие и не израсходовать при этом слишком много патронов, ведь сильно продырявленная шкура практически ничего не стоила. Такой стрелок всегда начинал с вожака стада, как правило старшей самки, поскольку ее ранение неизбежно вызывало замешательство у остальных животных. Ближайшие к ней бизоны собирались вокруг и становились следующими мишенями. После выстрела животное падало на колени или на бок и истекало кровью, льющейся из носа и рта. В конце концов какая-нибудь другая самка брала на себя роль вожака и пыталась увести стадо – и теперь убивали уже ее. Хороший стрелок, вооруженный 16-фунтовым (около 7 кг) карабином Шарпса и имеющий сотню зарядов в поясе-патронташе, мог застрелить до двух бизонов в минуту. Делать паузу или менять винтовку приходилось только тогда, когда ствол сильно нагревался.
Затем к подстреленным бизонам подходили шкуродеры, вооруженные как минимум двумя ножами – для разрезания шкуры и отделения ее от мяса. Процесс снятия шкуры с одного животного занимал от 10 до 15 минут. Первый разрез, сделанный должным образом, шел от горла вдоль живота; у самцов перерезали сухожилия в области мошонки. Следующие надрезы производились вокруг головы, захватывая уши и оставляя остальную часть; далее надрезали вдоль тыльную сторону задних ног и переднюю сторону передних ног. После этого начинали снимать шкуру. Для этой процедуры, начинавшейся от коленей, требовались острые лезвия и большая сила. Если имелась лошадь[42], то шкуру с туши стягивали с ее помощью. Хороший шкуродер мог снять за день от 30 до 40 шкур, каждая из которых весила около 100 фунтов (45 кг).
В состав такого синдиката входили также те, кто чистил оружие и наполнял патронташи, повара, кузнецы, ранглеры – молодые ковбои, присматривавшие за лошадьми, и погонщики, управлявшие упряжками волов, тащивших фургоны. Другие работники растягивали и раскладывали шкуры на ровной площадке для просушки – сначала окровавленной стороной вверх, а мехом вниз. При больших объемах работ требовалась площадь в несколько акров. Когда обе стороны подсыхали, шкуры складывали в огромные груды, которые ежедневно разбирали и раскладывали на солнце до тех пор, пока шкуры не будут окончательно высушены. При этом они теряли примерно половину своего веса, что удешевляло их транспортировку. Затем товар доставляли на повозках до ближайшей железнодорожной станции, где располагались склады для их хранения, рассчитанные на десятки тысяч штук; здесь шкуры ждали отправки на восток – на кожевенные заводы Чикаго, Канзас-Сити и Европы.
Одна шкура могла продаваться за 25 центов в охотничьих угодьях и за 3 доллара в Канзас-Сити. Верхняя одежда из нее стоила уже до 50 долларов. 22-летний охотник на бизонов Фрэнк Мейер писал: «Когда я занялся этим бизнесом, то сел, чтобы все обдумать, и решил, что я действительно один из баловней судьбы. Только представьте! Там 20 млн бизонов, каждый из которых стоил не менее 3 долларов – то есть 60 млн долларов. Я мог бы убивать по 100 в день… что принесло бы 6000 долларов в месяц – в три раза больше, чем платили президенту Соединенных Штатов, и в 100 раз больше, чем мог бы заработать человек на хорошем месте»[43]. К концу 1870-х гг. в этой отрасли работало[44] уже 5000 охотников и шкуродеров.
При этом в порядке вещей было неимоверное количество отходов. По некоторым оценкам, только одна шкура из четырех оказывалась достаточно качественной для продажи. Охотники редко забирали бизонье мясо, и то, как правило, только язык и горб. На равнинах оставалось гнить так много освежеванных туш, что через несколько лет возник целый промысел собирания выбеленных солнцем костей бизонов. Из них вырезали разные безделушки или перерабатывали в костяной уголь – продукт, который использовался для фильтрации воды, осветления сахара при рафинировании или для переработки сырой нефти в петролатум[45].
Последним важным фактором, способствовавшим уничтожению бизонов, стала негласная политика армии, направленная на то, чтобы лишить индейцев Великих равнин самого важного для них продукта питания – бизоньего мяса, что в конечном итоге привело к их зависимости от правительства США в отношении продовольствия. Историки до сих пор спорят, насколько осознанным и продуманным был этот план, но нет никаких сомнений в том, что военные бесплатно раздавали охотникам боеприпасы, поощряли солдат к участию в охоте ради развлечения и организовали ряд роскошных охотничьих экспедиций для высокопоставленных лиц, самой известной из которых была Большая царская охота на бизонов, упомянутая выше.
Как заметил Тедди Блю, «вся эта бойня была подстроена правительством, чтобы контролировать индейцев, лишая их еды. И с этим ничего нельзя было поделать. Но все равно это был бесчестный и грязный способ ведения дел, и ковбои, как правило, испытывали определенную симпатию к индейцам»[46].
Коренные американцы прекрасно понимали, что и почему происходит. Сатанта, вождь племени кайова, говорил: «Эти солдаты вырубают мой лес, они убивают моих бизонов, и когда я вижу это, мое сердце разрывается… Неужели белый человек превратился в ребенка, который безрассудно убивает и не ест добычу? Когда краснокожие убивают животное, они делают это, чтобы выжить и не умереть с голоду»[47]. Ему вторил Десять Медведей, вождь ямпарика, одного из племен народа команчей: «Так почему же вы просите нас бросить реки, солнце и ветер и жить в домах? Не просите нас отказаться от бизонов в пользу овец. Молодежь слышала такие разговоры, и это ее огорчает и злит. Не говорите об этом больше»[48].
Особая вина в этих событиях лежит на генерале Филипе Шеридане, руководившем в этот период военными действиями на землях, лежащих за Миссури. Именно Шеридан во время Гражданской войны опустошил долину Шенандоа, пытаясь победить конфедератов с помощью голода[49]. Аналогичную тактику он использовал и в отношении коренных американцев. Так, Шеридану приписывают фразу «Хороший индеец – мертвый индеец», хотя он всегда отрицал, что произносил ее. Кроме того, утверждают, что в то время он призывал законодательное собрание Техаса «позволить убивать, снимать шкуры и продавать до тех пор, пока бизоны не будет истреблены, поскольку это единственный способ установить прочный мир и позволить цивилизации двигаться вперед»[50].
Подобные неправомерные действия совершали должностные лица и в Вашингтоне (округ Колумбия), и в Белом доме. Когда в 1874 г. конгресс разработал федеральный законопроект, направленный на защиту сокращающихся стад бизонов, президент Улисс Грант использовал карманное вето[51], чтобы воспрепятствовать его принятию.
Уильям Темпл Хорнадей, директор Нью-Йоркского зоологического парка, критиковавший пренебрежительное отношение правительства к проблеме бизонов, в своей книге «Истребление американского бизона» утверждал, что, когда политики, бизнесмены и охотники-любители взялись за уничтожение этих животных, их популяция, возможно, уже сокращалась. Поселения людей, распространявшиеся вдоль различных западных рек, отнимали у них лучшие места обитания. К тому же в борьбе за пищу бизоны столкнулись с растущей конкуренцией со стороны новых обитателей экосистемы, в частности диких мустангов, которых, как и первых коров, завезли на континент испанские конкистадоры. Возможно также, что гигантские стада, вызывавшие благоговейный трепет у тех, кто их видел впервые, на самом деле образовались в результате «популяционного взрыва» – резкого увеличения численности, – вызванного значительным сокращением истребления их индейцами, численность населения которых, в свою очередь, сократилась из-за эпидемий оспы, тифа, кори, гриппа и прочих заболеваний, завезенных европейцами. Таким образом, популяция бизонов, возможно, достигла уровня, который сложно поддерживать, что могло вызвать стремительное падение численности. Массовое истребление только ускорило этот процесс.
Хорнадей указал пять причин почти полного исчезновения бизонов: человеческая жадность, непростительное пренебрежение со стороны правительства, тот факт, что охотники предпочитали добывать шкуры самок, «феноменальную глупость самих животных и их безразличное отношение к человеку»[52] и, пожалуй, наиболее губительную – развитие огнестрельного оружия, например появление казнозарядных винтовок и унитарных патронов.
Природоохранных организаций тогда не существовало, влиятельных защитников животных, таких как Хорнадей, было немного, и массовое истребление бизонов продолжалось до весны 1884 г. Когда в тот год промысловые охотники, как обычно, отправились за бизонами, то уже их не нашли.
Всего через несколько лет Хорнадей напишет следующее: «На всем Западе не осталось ни одной кости или кусочка мяса, указывающих на присутствие бизонов… Подобного, вероятно, не было ранее ни в одной стране и, несомненно, никогда больше не будет». Возмущенный потерей этих животных, он не терпел тех, кто говорил, что истребление бизонов нельзя было остановить: «Такое обвинение в слабости и беспомощности со стороны национального правительства – это оскорбление по отношению к тому, что является нашей силой и ресурсами. Охрана животных сейчас и всегда – это просто вопрос денег»[53].
К 1902 г. в Йеллоустонском национальном парке осталось всего два десятка бизонов; от охотников их защищали наказания, предусмотренные законом Лейси, принятом в 1894 г. С этого уцелевшего стада началось медленное восстановление популяции, в которое свой вклад внесли и Служба национальных парков, и сам Уильям Хорнадей, ставший в 1905 г. одним из основателей Американского общества по защите бизонов – первой природоохранной организации, занимавшейся возвращением животных в дикую природу. Сегодня число бизонов в Йеллоустоне колеблется от 2500 до 4000 особей, еще около 30 000 бродят по государственным и частным территориям за пределами парка, однако бизон вряд ли сможет вернуть себе роль ключевого вида на открытых пастбищах в прериях.
Исчезновение этих животных стало первой крупной экологической катастрофой в истории Соединенных Штатов. Не за горами была и вторая, на этот раз затронувшая крупный рогатый скот.
После того как бизоны исчезли с открытых пастбищ, а так называемая проблема индейцев в значительной степени потеряла остроту в результате переселения племен в резервации, для начала скотоводческого бума требовался лишь один катализатор – экономический стимул. Он появился после окончания Гражданской войны, когда экономика Конфедерации была полностью разрушена. Главным среди обедневших штатов, имевшим, пожалуй, наихудшие экономические перспективы в период послевоенного восстановления, был Техас. И именно здесь, на находившихся в бедственном положении южных землях, весной 1866 г. началась эра царства скотоводов.
2
Скот за деньги

Житель штата Айова Джордж Даффилд – единственный известный гуртовщик эры скотоводов, который вел дневник своих перегонов. Его записи – печальный рассказ о трудностях, связанных с доставкой тысячи голов лонгхорнов на север из Техаса в Айову в 1866 г.
Дождь идет уже три дня… Ливень, ветер и куча неприятностей… Моя лошадь угодила в канаву, и я сильно повредил колено… По-прежнему темно и мрачно. Река поднялась. Все вокруг кажется унылым… Прошлой ночью была сильная гроза. Из-за паники в стаде потеряли 100 животных… нашли 50. Все [люди] устали. Все удручает… Переплыли реку с помощью веревки, а затем перетащили фургон. Потеряли почти всю кухонную утварь: чайники, кофейники, кружки, миски, фляжки… Один сплошной дождь… Весь скот разбежался [ночью], и утром мы не увидели ни одного бычка. Целый день собираем стадо… Работники в унынии… Есть нечего… Все мрачно. Четверо лучших работников ушли… Дождь лил два часа[54].
Поражение в Гражданской войне разрушило экономический фундамент американского Юга. К концу войны, весной 1865 г., значительная часть городов, таких как Атланта и Чарльстон, превратилась в обгоревшие руины. Плантационная система, основанная на рабском труде, распалась, что увеличило и без того массовую безработицу. Не было ни официальных органов власти, ни полиции, ни судов, ни почтовой службы, а валюта ничего не стоила – как, впрочем, и все ценные бумаги правительства Конфедерации. Жители навсегда потеряли свои сбережения, если они не были в виде золота.
Мало в каких регионах Юга перспективы были столь же мрачными, как в Техасе, территория которого в основном все еще оставалась невозделанной и малозаселенной: в самом крупном городе – Галвестоне – проживало менее 10 000 человек. Техасские скотоводческие хозяйства, как правило, были небольшими; ими управляли крепкие мужчины шотландского или ирландского происхождения, готовые защищать свое добро от набегов команчей. Помимо разведения скота, здесь чаще всего выращивали кукурузу и хлопок – важнейшую сельскохозяйственную культуру штата. Когда молодежь ушла на войну, большинство хлопковых плантаций и скотоводческих ранчо оказались заброшенными.



