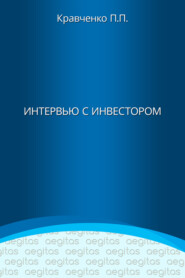 Полная версия
Полная версияИнтервью с инвестором
В стране ситуация немного другая, и когда говорят, что вот сейчас мы напряжемся и цены на жилье понизятся, я в это не верю, потому что мы фантастическая страна. Мы приняли самый дорогой вариант жилищного строительства, какой может быть, то же самое касается промышленного и офисного строительства. Мы строим из самых дорогих материалов – из кирпича, бетона, натурального дерева, что в мире практически не делают. Мы порой смеемся над американскими домами, которые можно проткнуть кулаком, но миллионы, десятки, сотни миллионов людей живут в таких домах, и это вполне нормально, и они по себестоимости обходятся в разы дешевле наших. Они не настолько энергоемки и намного более удобны с точки зрения их переделки, перестройки, замены. Во всем мире давным-давно уже не строятся заводы на таких огромных территориях, создаются унифицированные строительные площадки. Мы смеемся над тем, насколько просто выглядят эти предприятия – коробки с ровным покрытием, где можно установить оборудование с любым видом станков относительно легких конструкций, а мы все утяжеляем, строим огромные цеха, ставим огромные колонны и балки, вбухиваем миллионы тонн бетона и удивляемся, что же у нас все дорого? Иногда мне кажется, что идея с хрущевскими пятиэтажками была подсказана нам агентами какой-то иностранной державы, потому что мы десятки лет грели планету Земля, мы применили самую энергозатратную технологию из всех, которые только можно применить. А вот коттеджные поселки экономкласса, в которых живут миллионы людей в мире, практически не строим. Мы всегда выбираем самый дорогой путь. Поэтому, что касается московского рынка недвижимости, я думаю, что элитное жилье будет на уровне, сопоставимом с Лондоном и Нью-Йорком, а в экономклассе, в не пользующихся спросом зданиях может быть небольшое падение, а так все будет развиваться циклично. Кондратьев был великий человек, теорию циклов еще никто не отменял. Мы сейчас находимся на каком-то определенном цикле, после которого, видимо, будет небольшой откат, потом рынок расслоится, потому что он крайне неоднороден.
– Можно ли назвать нынешнее правительство России правительством упущенных возможностей?
– Я бы не назвал его правительством упущенных возможностей, правительство делает многое, делает своевременно, но, увы, случаев, когда эти возможности были упущены, действительно много.
– Что бы вы хотели порекомендовать российскому правительству в области экономической политики?
– В экономической политике можно посоветовать внимательно следить за тем, что делают конкуренты, быстро провести пенсионную реформу и реформу социального и медицинского страхования, не пытаться всеми силами увеличивать государственный сектор экономики, активно искать точки роста, стимулировать подъем экономики, наверное, это будет правильно.
– Вы читаете финансовую (инвестиционную) литературу?
– Финансовую и инвестиционную литературу я читаю с удовольствием и читаю много.
– Какой периодической литературой вы пользуетесь?
– Периодическая литература стандартная: от FT до «Коммерсанта» и всех базовых журналов издательского дома Родионова. Хотелось бы, конечно, чтобы было побольше времени для профессионального анализа, но его нет. Приходится ограничиваться той картинкой, которую дает Блумберг, не более того.
– Какая книга по инвестициям вам больше всего запомнилась?
– Я бы не стал выделять какую-то из книг по инвестициям, их много. Есть очень серьезные и очень веселые, поэтому надо стараться читать все, чтобы знать, как формировались состояния в эпоху первоначального накопления капитала, как появлялись биржи, что было на рынке мусорных облигаций – об этом целые детективные романы написаны.
– Какую книгу вы бы порекомендовали читателям «ПИн» прочитать в обязательном порядке?
– Я не могу рекомендовать в обязательном порядке прочесть какую-то книгу. Читать нужно все, если вы ограничитесь какой-то одной книгой, то ничего хорошего из этого не получится. В свое время и в своем месте полезен и Дейл Карнеги, потом наступает время книг серии «Экономикс», потом вы заинтересуетесь книгами «Бизнес в стиле фанк», чем-то еще. Но это все грани одного и того же процесса, и нужно смотреть на него со всех сторон, иначе ваше образование будет однобоким. А самый лучший совет, это не читать, а писать книгу. Я обнаружил, что это действительно так. Если вы хотите что-то понять, идите к студентам, читайте лекции и пишите книгу, и тогда вы поймете, что происходит, и поймете очень хорошо.
– В качестве заключения, вы могли бы рассказать о вашей коллекции вин?
– Да, я собираю вина. Мой отец был виноделом, 40 лет делал вино, и с тех пор у меня довольно жесткое отношение к крепким спиртным напиткам, которые убивают саму способность ощущать вкус. Я люблю дегустировать (а не пить) хорошие вина – это целая галактика. В разное время для человека интересны разные виды вин. Самый типовой путь движения человека – постепенный переход от самых простых сладких вин к винам сухим, сначала к красным, потом к сложным белым, а потом все замыкается, уже опять к сладким, но на другом уровне, потому что и они бывают чрезвычайно интересными, комплексными, разнообразными. Я собираю те вина, которые мне нравятся и которые могут долго лежать в коллекции. Там до сих пор лежат вина, сделанные моим отцом, но, увы, у каждого вина есть свой срок, и относительно скоро они будут допиты, потому что красное вино может храниться десятилетиями, но у него есть определенный срок. В этой коллекции большой подбор раритетов Массандры. Массандра делала действительно великие вина, причем ужас ситуации в том, что чем сложнее был год, тем лучше было вино. Совершенно уникальные вина были в 1915, 1916, в 1937 году. Но и в хорошие, радостные годы получалось отличное вино, 1945 год совсем не плохой, даже очень хороший для Массандры. У меня стандартный подбор великих французских вин. Кстати, я старался их брать, еще когда они не были разлиты по бутылкам, за три года до их появления на рынке, потому что никаких денег мне бы не хватило, чтобы покупать их после того, как такое вино выходит на рынок, особенно сейчас. Это страшно дорого. Если проанализировать мою коллекцию, то, скажем, в ней можно найти бутылки уже нового тысячелетия, которые подорожали раза в четыре, и сейчас я бы их ни за что не купил в магазине, просто это было бы не по карману. Я люблю собирать сладкие вина, среди них очень много интересных вин величайшего мастера своего дела Мюллера из Германии, семейства Крахер из Австрии. Это, безусловно, вина районов Сатерн и Борсак из Франции. Это массандровские мускаты, великие совершенно вина, которые делались в Венгрии, если мы говорим о сладких винах. Много внимания стараюсь уделять новым винодельческим районам: очень быстро прогрессирует Чили, там полно великолепных вин, фантастические ширазы производятся в Австралии. Словом, коллекцию нужно собирать долго, и если ты серьезно к ней подходишь, то ты должен думать о том, что будут пить твои дети и твои внуки, потому что я надеюсь, что многие из бутылок доживут до того момента, когда они понравятся. Сейчас я практически сформировал основу коллекции для своих детей и думаю над тем, что приобретать для внуков. Сладкое вино может жить и сто лет, а хороший херес живет намного более двухсот. Но я бы не назвал это инвестицией, это удовольствие, собирание того, что приносит радость и возможность великолепно провести время в хорошей компании. Бутылка хорошего вина, хорошо подготовленного, хорошо сохраненного, выпитая в нужном месте и в нужное время, с хорошими людьми, за хорошим разговором, – что может быть лучше?
Михаил Веллер: «Мне нравится делать историю…»
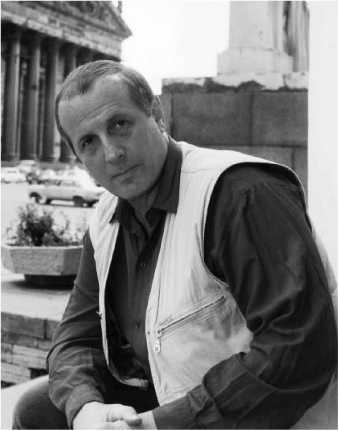
Михаил Веллер родился в 1948 году. Детство провел в Сибири. В 1972 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал лесорубом в тайге, охотником-промысловиком на Таймыре, скотогоном в Алтайских горах, журналистом, учителем – всего сменил около тридцати профессий.
Первая книга рассказов «Хочу быть дворником» вышла в 1983 году и сразу привлекла внимание критиков и читателей точностью и гибкостью стиля и неожиданностью сюжетов. За ней последовали «Разбиватель сердец» (1988), «Технология рассказа» (1989), «Рандеву со знаменитостью» (1990). Бестселлерами стали роман воспитания «Приключения майора Звягина» (1991) и названная критиками самой смешной книгой последних лет «Легенды Невского проспекта» (1993). Литературный скандал вызвали мини-роман «Ножик Сережи Довлатова» и политический хит «Великий последний шанс». Бестселлер, роман «Гонец из Пизы» (2000) выдержал за год 11 изданий. Его книги издавались сотни раз общим тиражом более 6 млн экземпляров.
Михаил Иосифович Веллер – самый издаваемый сегодня из русских некоммерческих писателей. Печатался в «Литературной газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Огонек» и др. Читал лекции по современной русской прозе в университетах Милана, Иерусалима, Копенгагена. В свободное время живет в Москве, но работать продолжает в Таллине.
Впервые о Михаиле Иосифовиче Веллере я услышал несколько лет назад. Это была одна из очередных дискуссионных передач, которые так нередки на нашем телевидении и, как правило, не особо вызывают желание следить за происходящим на экране, но здесь был другой случай: яркая, неординарная личность, эрудиция и широкий кругозор человека привлекли мое внимание. Стоит признаться, к моему стыду, на тот момент я не был знаком с его произведениями и не знал, что Михаил Иосифович является известнейшим писателем и публицистом, что его книги расходятся миллионными тиражами. Прочитав несколько из них, я еще раз убедился, что мое первое впечатление не было ошибочным. Наша встреча и последующее интервью – ни в коем случае не дань моде и не погоня за одним из самых популярных писателей в постсоветском пространстве, книги которого переведены на многие языки мира и издаются сотнями тысяч в год. Я абсолютно искренне считаю, что Михаил Иосифович – как раз тот случай, когда интереснейший человек с разносторонними способностями и повышенной целеустремленностью заслуженно становится известнейшим русскоязычным писателем современности. Тем для обсуждения было много, разговор получился крайне интересным, и сокращать интервью не представлялось возможным. Поверьте, сокращать или редактировать Веллера просто нереально, он говорит так же, как пишет. Естественно, я не во всем согласен с Михаилом Иосифовичем, но это совершенно другая история.
– Михаил Иосифович, кто ваш любимый писатель – российский, зарубежный, современный, классик? Давайте начнем с российского.
– Вы знаете, чем больше читает человек, тем меньше у него категорических пристрастий. Это относится и к денди – ваш любимый предмет одежды, и к гурманам – ваше великое блюдо. Таким образом, если вы спросите восемнадцатилетнего читающего человека о любимых писателях, то он ответит с большой долей вероятности. В моем возрасте одного любимого писателя назвать просто невозможно. Потому что есть сравнительно длинный ряд авторов, которых любишь, иногда очень любишь, иногда буквально боготворишь за то, что в них есть. Когда-то в школе моим любимым поэтом был Маяковский, моим любимым писателем был Джек Лондон, моим любимым современным писателем был Хемингуэй, моим любимым современным советским писателем был Василий Аксенов, и все было просто. С возрастом вот эта простота и определенность из нашей жизни уходят. Поэтому я могу назвать ряд фамилий. Все это фамилии из учебников, из хрестоматий, просто они идут не подряд, как в учебниках, а выборочно. Это разумеется, Толстой, Чехов, Лермонтов – из русской классики. Это, разумеется, Аксенов и Шукшин – из литературы последнего советского периода. Это блистательный советский писатель Морис Симашко, который умер несколько лет назад. Он был у нас очень узко известен, его сейчас почти не помнят. Морис Симашко, который был, возможно, лучшим стилистом в русской литературе и одним из мудрейших авторов. А если говорить о зарубежных авторах, так ведь и здесь нельзя набрать ничего нового, но вместо Хемингуэя и Фолкнера из американцев мне всего ближе и больше всего радуют Пенн Уоррен и Флэннери О’Коннор, из французов, наверное, Стендаль, из англичан, наверное, Диккенс. То есть совершенно обычные фамилии.
– А из современных, из российских, именно в настоящее время – после 90-х годов – кого-то можете назвать?
– Любимого писателя здесь назвать не могу. Очевидно, любят тех, кто подальше во времени и пространстве, по принципу «Большое видится на расстоянии».
– То есть должно пройти время, должна произойти оценка?
– Вероятно.
– Что вам самому больше нравится писать, короткие рассказы или большие произведения?
– На самом деле, конечно же, короткие рассказы. В них вкладывается больше мастерства, больше умения, больше смысла, эмоций, мысли, символа на единицу текста. То есть текст короткой прозы максимально нагружен и максимально отточен. Это так же, как, допустим, шлифовка клинка – это замечательное занятие требует еще огромного умения, но шлифовка бриллианта – более тонкое дело.
– После выхода книги «Великий последний шанс» прошло несколько лет. Хотели бы вы что-то в ней убрать или добавить? Исходя из сегодняшней ситуации.
– Эта книга очень привязана ко времени, разумеется, ее актуальность через 20 лет, например, будет намного меньше, чем в момент ее написания. По смыслу, по эмоциям, по своему видению происходящего в России мне нечего в ней убавить и пока еще, через два года после ее выхода, нечего к ней прибавить. Я по-прежнему подписываюсь под каждым ее словом. Но ситуация меняется и главное, что меняется, продолжаются разговоры о необходимости авторитарной власти в России на данном и ближайшем этапе. Но понимается эта авторитарная власть глупо. Я имел диктатуру как жесткий период жесткого конституционного правления для превращения нашего хаоса, нашей аристократическо-олигархической республики в нормальную демократию, и там, где узлы не могут быть распутаны, они должны быть разрублены авторитарным способом. То есть авторитарная власть обязательна ради чего-то, обязательна для выполнения каких-то конкретных целей и обязательна для того, чтобы за несколько лет убрать те причины, которыми она, эта авторитарная власть, была вызвана к жизни. Авторитарная власть ради того только, чтобы удобнее сохранять нынешнюю власть (сегодняшняя позиция) приведет Россию в дальнейший тупик. Все, на что я хотел бы обратить внимание сегодня, когда вы говорите об авторитарной власти или ее отсутствии, – думайте о цели ее, о смысле ее и прежде всего о том, как ее прекратить, когда она выполнит свои задачи, иначе все будут плясать в деспотии и плакать над своей судьбой.
– Насколько реальны истории и герои в книге «Легенды Невского проспекта»?
– Так, примерно, на один процент реальны, а на 99 процентов – чистый вымысел.
– А история про Хачатуряна?
– Много лет назад, в 1960-е годы, существовал расхожий анекдот о том, что однажды Хачатурян был в гостях у Дали, и Дали через комнату прогарцевал голый на швабре. С тем чтобы сделать очередной «экшн», произвести очередное эпатирующее впечатление на очередного знатного гостя и таким образом поддерживать скандальный ореол вокруг своей личности. Больше там не было ничего. Там не было мавританского замка, звонка в Америку, ожидания в зале, павлина в клетке, писания в вазу, дарения альбома, танца с саблями. Там не было больше ничего. Все это я придумал. И когда в желтых сборниках типа «Великие скандалы XX века» я встречаю свой рассказ, очень мало измененный, я испытываю амбивалентные чувства – когда ваша теща падает в пропасть в вашем автомобиле. С одной стороны, наверное, неплохо придумано, если принимается за правду, с другой стороны, хочется, как комиссар Жюв в фильме про Фантомаса, подпрыгнуть и закричать: «Да ведь это я все придумал!»
– Значит, газет никаких не было?
– Разумеется, нет!
– Тогда следующий вопрос. Было ли это согласовано с Хачатуряном, я так понял, что нет?
– Хачатурян уже умер, и согласование будет происходить не в этом мире.
– Насколько корректно писателю придумывать истории об известных личностях в нелицеприятном для них свете?
– Когда журнал «Панч» на обложке опубликовал весьма злую карикатуру на Марка Твена, писатель сказал: «О, я понимаю теперь, что достиг настоящей славы!» Когда человек достигает славы, он должен понимать, что его фигура является мишенью не только для славословий, но и для злословия, не только для правды, но и для разнообразной лжи, выдумок и тому подобного. Это специфическая сторона славы. Если ты знаменит и велик – терпи, без этого славы не бывает. Что касается писателя, то часто приходится говорить: или ты соблюдаешь порядочность и корректность, или ты пишешь хорошую книгу. Этот вопрос каждый решает для себя сам. Пачкать человека нехорошо. Я полагаю, что я никого не пачкал, разве что кроме Валентина Зорина, который этого, на мой личный взгляд, заслуживает. А над остальными и в книге автор иногда посмеивается, но, по-моему, вполне добродушно. Я думаю, что моя новелла «Танец с саблями» великого Хачатуряна никак не позорит и не унижает, а смеяться – в этом плохого нет. Мне лично Хачатурян в этой истории был симпатичен, и Дали был симпатичен. И на мой взгляд, это забавнейший казус из жизни двух великих людей. А грязного или унизительного здесь нет. Так что я никогда не отказывался от того, что уже написал.
– Не совсем согласен.
– Ну, вы не обязаны с этим соглашаться!
– Планируется ли экранизация ваших произведений? Я имею в виду художественные. Не сериалы, а на большой экран?
– Замечательный роман Курта Воннегута «Сирены титана» оканчивается фразой «Мне кажется, кто-то там наверху неплохо к тебе относится». Так вот, мне часто кажется, что кто-то там наверху есть и у него бывают свои планы на происходящее, свои планы относительно судеб людей, которые пытаются этим планам противодействовать, обычно безуспешно. Так вот я полагаю, что в планы Всевышнего не входила экранизация моих произведений. Потому что предложений было море, попыток было много, пара из них была завершена. Произведение кино получились ужасные. Все остальные экранизации не состоялись по разнообразнейшим причинам. Например, с моим добрым приятелем Денисом Евстигнеевым мы не сошлись во взглядах на кинематограф. У моего доброго знакомого Мамина, известного петербургского режиссера, продюсер украл все деньги, собранные на сериал «Легенды Невского проспекта». Раз восемь приступали к экранизации «Приключений майора Звягина». Во-первых, их хотели перенести в наше время, во-вторых, полагали, что мы изменим это все, а потом или продюсер менял профессию, или происходило еще что-то. Таким образом, сейчас, как всегда, несколько фирм пытаются заниматься экранизацией Звягина, экранизацией легенд, экранизацией отдельных рассказов, вплоть до того, что я клянусь, я не вру: вот сейчас, в эту секунду, когда я отвечаю на ваш вопрос, я вспомнил, что я должен позвонить на одну студию, которая хочет купить у меня права на экранизацию рассказа «Узкоколейка». Вот я все до них с этой круговертью не могу добраться. Я думаю, экранизировать «Узкоколейку» будет очень трудно, думаю, что в наших реальных российских условиях просто невозможно, о чем честно их предупредил, но если они хотят заплатить мне деньги и попробовать ее экранизировать, то в конце концов за свои деньги они могут исполнить свой каприз.
– Говорят, писатели делают историю. Вы чувствуете ответственность за свое творчество, ведь то, как преподнесен исторический факт и соответственно как люди его воспринимают, во многом формирует общественное мнение? Такой несколько философский вопрос.
– Двадцать семь лет назад я был приглашен одним из соавторов сборника, издаваемого «Лениздатом» к очередной годовщине не то комсомола, не то Советской армии, не то советского Военно-морского флота. Мне выделили самую военно-специфическую тему из уважения к познаниям в разных областях. Речь шла о том, как в 23-м или 26 году, сейчас уже не помню, произошло возгорание минного склада в финском заливе близ Кронштадта и как командой курсантов из крейсера «Аврора», который был тогда учебной базой, этот пожар был ликвидирован. Я зарылся в вопрос и выяснил, что никто уже не знает, как это было, что документы противоречивы, что взрыв морской мины (это пара центнеров взрывчатки) не дает ни одного шанса уцелеть людям, которые эту мину сейчас катят, и поэтому, как несколько из них могло уцелеть, минная наука объяснить не может. Вот я реставрировал эту ситуацию и когда составитель спросил меня: «Миша, откуда ты это знаешь, ведь тебя там не было!», я сильно раздраженный предыдущим допросом, отвечал злобно: «А вот как я написал, вот так теперь вся история и будет!» И это ощущение понравилось мне самому. Мне нравится делать историю, только к этому нужно абсолютно добросовестно подходить, чтобы ты сам был уверен в том, что оставляешь потомкам.
– Вы можете ведь в принципе ошибаться…
– «Тетя Песя, ошибаются все, даже сам Господь Бог, разве с Его стороны было бы плохо поселить евреев в Швейцарии, где их окружали бы шикарные пейзажи и сплошные озера, так нет, он поселил их в Одессе, чтобы они жили и мучились», – Исаак Бабель «Одесские рассказы». Что я могу добавить к словам классика…
– Добавить действительно нечего. Это серьезный вопрос. Можно ведь предположить, что руководители любого государства, открыв определенные архивы, в определенный момент, допуская определенных писателей и т. д., могут создавать историю в выгодном им свете?
– Сейчас вашими устами глаголет Господь – так создавалась наша история. Во всех странах и во все времена. Именно так писались и древнерусские летописи, и кое-какие римские анналы, и много еще что. Поскольку я никогда не был ангажирован властью, даже от советской идеологии, в том, что писал я, был независим, поскольку всю жизнь, закончив только школу, я позволял себе роскошь делать то, что я хочу, и не делать того, чего я не хочу, то здесь моя совесть абсолютно спокойна.
– Похоже, вы не исключаете той ситуации, что вы в принципе можете ошибаться.
– Никто не может исключать такой ситуации, если я не буду делать то, в чем я убежден, я не смогу сделать ничего вообще.
– Власти достаточно удобно найти убежденных в том или ином вопросе людей и озвучить с помощью писателя историю в нужной им интерпретации. Чужими убежденными руками.
– Это одна из задач власти, умной, основательной власти во все времена. Более того, несколько раз власть пыталась приспособить меня к делу, но у нее не вышло. Это вроде как британские колонизаторы пытались заставить арабов воевать и в отчаянии опускали руки, говоря, что этот материал совершенно не пригоден для использования даже во вспомогательных частях колониальной пехоты. В принципе вы, разумеется, правы, это происходит, а конкретно ко мне это не имеет отношения.
– Прямого…
– Ни прямого, ни косвенного. Я имею основания полагать, что у меня не меньше серого вещества в голове, чем у людей, которые занимаются конкретно властью.
– Кого бы вы назвали героем нашего времени?
– Специфика этого традиционного вопроса в том, что слово «герой» уже давно у нас имеет два разных значения. Первое – старинное, традиционное: человек, который совершает значительные поступки, подвиги, поступки, сопряженные с опасностью для своей жизни, иногда рискует этой жизнью ради спасения других людей, своего народа, своей страны. Герой – человек, на котором держится его государство, который двигает историю. Второе значение – расхожий персонаж медийных средств, тот, кто всем известен и о ком говорят. С появлением телевидения – это в первую очередь фигуры шоу-бизнеса, они не делают ничего героического, но их все знают, их называют героями экрана и т. д. Вот эти, вторые фигуры часто воплощают в себе специфические черты неких специфических представителей. Значит, герои нашего времени те же, кто всегда. Сейчас это солдаты, которые в 18 лет погибают согласно присяге и отданному приказу, полагая, что жизнь они отдают за свою страну и свой народ; это пожарные, которые гибнут на пожарах, и таких много каждый год; это милиционеры, которых ругают и презирают все, кому не лень, но среди которых тем не менее есть люди, делающие тяжелую, опасную, грязную и неблагодарную работу за маленькие деньги, и которые гибнут постоянно от рук преступников. Это люди, которые в неожиданных условиях спасают детей из проруби, и т. д. и т. п. О них мало пишут, их не снимает телевидение, на них не сделаешь, видите ли, высокого рейтинга. А другой герой – это что-то среднее между Анатолием Чубайсом и Ксенией Собчак; это человек, который постоянно старается быть на виду – любым способом; вокруг которого возникают скандалы, который делает непонятно что, но заставляет говорить о себе, и которые, как протекторы, наваренные на обшивку корабля, вы-то должны знать, что это такое, аккумулируют на себя всю ржавчину происходящего процесса.



