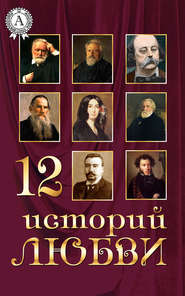скачать книгу бесплатно
– Все это очень хорошо, – сказала вполголоса Жервеза, – но причем же во всем этом цыгане?
– Сейчас, сейчас, – ответила Магиетта. – В один прекрасный день в Реймс прибыли какие-то странные люди. Это были бродяги и нищие, слонявшиеся по всей провинции, под предводительством своих атаманов и старост. Все они были смуглые, курчавые, у всех в ушах были серебряные серьги. Женщины были еще менее красивы, чем мужчины. Лица их были еще более смуглы, головы их ничем не были покрыты и волоса всклокочены; одеты они были в рваные, пестрые юбки, на плечи их были накинуты сплетенные из бечевок плащи, и волосы их ниспадали с головы, точно конский хвост. Дети, копошившиеся у наших, могли бы напугать даже обезьян. Вся эта ватага прибыла в Реймс прямо из Нижнего Египта, через Польшу. Уверяли, что папа исповедал их и наложил на них епитимию, в силу которой они должны были в течение семи лет кряду странствовать по белу свету, не ложась в постель. В Реймс они прибыли для того, чтобы гадать гражданам и гражданкам, которые пожелали бы узнать свою будущность. Понятно, что их не впустили в город. Тогда весь этот табору расположился в поле, за Брэнскими воротами, на том пригорке, где стоит мельница, возле заброшенных известковых ломок. Все жители Реймса стали посещать их табор. Они смотрели вам на руку и делали самые удивительные предсказания; они готовы были бы предсказать Иуде, что он сделается папой. Однако, вскоре относительно их стали ходить разные недобрые слухи, говорили, будто они таскают из карманов кошельки, воруют детей и даже едят человеческое мясо. Люди, желавшие казаться благоразумными, говорили более неосторожным: «не ходите к ним», – а сами отправлялись к ним втихомолку. Словом, все точно с ума сошли. Дело в том, что они предсказывали будущее не хуже любого пророка. Матери не могли достаточно нагордиться дочерями своими, с тех пор, как цыганки вычитали у последних на ладони разные чудеса, написанные по-тарабарски или по-турецки, что ли, – хорошенько не знаю. Одна должна была выйти замуж за короля, другая – за папу, третья – за капитана. Бедную Пахиту тоже разобрало любопытство. Ей захотелось узнать, не сделается ли и ее Агнеса в один прекрасный день царицей Армении или чем-нибудь в этом роде. И вот она отправилась с нею однажды к цыганам. Цыганки стали любоваться ребенком, ласкать его, удивляться его маленькой ручке, целовать его своими смуглыми губами, – а бедная-то мать радовалась. Особенно восторгались они ножками, и башмачками Агнесы. Ребенку в то время не было еще и одного года отроду; но он уже начинал лепетать, звонко смеялся, глядя на свою мать, был пухленький и толстенький, словом, походил, ни дать, ни взять, на райского херувимчика. При виде цыганок, он очень испугался и заплакал. Но мать стала еще крепче целовать его и ушла в восхищении от предсказаний гадалок ее милой Агнесе. Судя по этим предсказаниям, ей суждено было быть красавицей, добродетельной, королевой. Она возвратилась на свой чердак в улице Фолль-Пен, гордая тем, что несет на руках своих будущую королеву. На следующее утро она воспользовалась тем, что ребенок спокойно спал на ее кровати – она всегда клала его спать возле себя, и, не заперев двери, побежала рассказать одной своей соседке, жившей на улице Сешессри, что когда-нибудь наступит день, в который ее дочери будут прислуживать за столом король английский и герцог эфиопский, и сотни других подобных глупостей. Возвращаясь и не слыша на лестнице детского плача, она проговорила про себя: – «Отлично! Ребенок еще спит». Дверь оказалась отворенною настежь, а между тем она отлично помнила, что притворила ее. Стремительно войдя в комнату, бедная мать кинулась к постели, она оказалась пустою, ребенка не было на ней! Она выбежала из комнаты, сбежала с лестницы и стала биться головою об стену, крича: – «Дитя мое! Где мое дитя? Кто взял мое дитя?» – Улица была довольно пустынная, дом стоял особняком – никто ничего не мог сообщить ей. Она обошла весь город, обшарила все улицы, пробегала целый день в каком-то исступлении, нюхая у дверей и у окон, точно дикий зверь, у которого украли его детенышей. Она еле дышала, волоса ее растрепались, на нее страшно было взглянуть, глаза ее горели, но плакать она не могла. Она останавливала прохожих, восклицая: – «Моя дочь! Моя дочь! Моя миленькая дочка! Если кто возвратит дочь мою, я сделаюсь его рабой, его собакой, пусть он съест мое сердце!» – Она встретила священника церкви Сен-Реми и сказала ему: – «Г. священник, я готова пахать землю ногтями моими, но возвратите мне моего ребенка!» – Уверяю вас, Ударда, что сердце обливалось кровью при виде ее, и я видела даже человека с весьма черствым сердцем, прокурора Понса-Лакабра, который при этом не мог удержаться от слез. – Бедная мать! – Вечером она возвратилась домой. Во время ее отсутствия одна из ее соседок видела, как две цыганки пробрались в ее комнату с каким-то узлом под мышкой, и затем, немного погодя, поспешно удалились, заперев за собою дверь. После ухода их в комнате Пахиты стало раздаваться что-то вроде детского плача. Бедная мать весело рассмеялась, скорее взлетела, чем взошла по лестнице, изо всех сил толкнула дверь, вошла… И представьте себе, Ударда, ее ужас! Вместо хорошенькой, свеженькой, розовенькой Агнесы, вместо этого Божьего благословения, на кровати валялся, ревя изо всей мочи, какой-то маленький уродец, безобразный, хромой, кривой, горбатый! – «Неужели?.. – воскликнула она в ужасе, зажмуривая глаза, – эти ведьмы превратили мою дочь в этого ужасного урода! – Соседки поспешили унести этого колченожку, опасаясь, что она сойдет с ума при виде его. Это маленькое чудовище родила, конечно, какая-нибудь цыганка, связавшаяся с самим дьяволом. Ему на вид было года четыре, и он лепетал на каком-то языке, который не был похож на человеческий язык; он произносил какие-то совершенно невозможные-слова. – Что касается Пахиты, то она, увидев валявшийся на полу башмачок Агнесы, – все, что ей осталось от ее дочери, – припала к нему губами, и в таком положении так долго оставалась неподвижная, немая, не переводя дыхания, что со стороны ее можно было бы принять за мертвую. Вдруг она вздрогнула всем телом, стала покрывать башмачок какими-то неистовыми поцелуями и разразилась, такими сильными рыданиями, что можно было бы подумать, будто сердце ее разорвалось на части. Уверяю вас, что и мы все рыдали. Она кричала:
– О, моя дочка, моя милая дочка, где ты?..
И этот крик переворачивал нам всю внутренность. Я и теперь не могу вспомнить об этом без слез. Ведь наши дети – плоть от плоти нашей, не так ли? – Милый мой Эсташ! Какой он красавчик! Если бы вы знали, какой он милый! Не далее, как вчера, он говорит мне:
– Я хочу быть жандармом!.. О, Эсташ, что было бы, если бы я лишилась тебя!
И вдруг Пахита вскочила и стала бегать по всему городу, крича во все горло:
– В цыганский табор! В цыганский табор! Нужно сжечь ведьм!
Но оказалось, что цыгане уже ушли, а ночь была так темна, что нечего было и думать о том, чтобы преследовать их. На следующее утро, в двух милях от Реймса, на полянке, поросшей вереском, между Тиллуа и Ге, найдено было несколько лент, принадлежащих ребенку Пахиты, и замечены остатки большого костра, несколько капель крови и козлиный помет. В виду этого, для городских жителей не оставалось сомнения в том, что на этой самой полянке цыгане справляли свой шабаш и что они сожрали ребенка в сообществе с Вельзевулом. Когда бедная Пахита узнала эту ужасную весть, она не заплакала, а только пошевелила губами, как бы желая говорить, но не могла произнести ни слова. На следующее утро она совершенно поседела, а через день она куда-то исчезла.
– Действительно, ужасное приключение, – заметила Ударда, – способное заставить расплакаться головореза.
– Теперь я уже не удивляюсь тому, – присовокупила Жервеза, – что вас разбирает такой страх перед цыганами.
– И тем более благоразумно было с вашей стороны, – продолжала Ударда, – что вы, намедни, ушли оттуда с вашим Эсташем, что и эти – польские цыгане.
– Нет, – сказала Жервеза: – говорят, что они прибыли сюда из Каталонии, в Испании.
– Из Каталонии?.. Может быть, – согласилась Ударда. – Я всегда смешиваю Каталонию, Польшу и Валонь. Но верно только то, что это – цыгане.
– Да еще и такие, которые не побрезгают жрать маленьких детей, – присовокупила Жервеза. – Я нисколько не удивлюсь тому, если узнаю, что и эта их Эсмеральда своим маленьким ротиком тоже кушает детское мясо. Ее белая козочка проделывает слишком мудреные штуки для того, чтобы все это могло обходиться без колдовства.
Магиетта шла молча, погруженная в задумчивость, являющуюся как бы продолжением грустного рассказа и прекращающуюся только тогда, когда поднятые этим рассказом волны достигли самых отдаленных уголков сердца. Но обращенный к ней вопрос Жервезы: «И что же, так и не узнали, что сталось с Нахитой Шан- флери»? Магиетта ничего не ответила. Жервеза повторила свой вопрос, окликнув ее по имени и потряся ее за руку. Магиетта как будто проснулась от глубокого сна. – Что сталось с Пахитой Шанфлери? – машинально повторила она слова, прозвучавшие в ее ушах; затем, сделав над собою некоторое усилие, чтобы вдуматься в смысл этих слов, она с живостью ответила:
– Нет, это так и осталось неизвестным. – И, помолчав немного, она продолжала: – Одни уверяли, будто видели, как она в сумерки вышла из Реймса в ворота Флешамбо; по другим – она вышла на рассвете в старые ворота Базэ. Какой-то нищий нашел золотой крестик ее повешенным на каменный крест, водруженный на лужайке, на которой происходит ярмарка. Этот-то самый крестик и погубил ее в 1461 году: это был подарок виконта Кормонтрейля, первого ее любовника. Пахита никогда не соглашалась раз статься с ним, в какой бы нужде она ни находилась; она, казалось, дорожила им столько же, сколько и жизнью. Поэтому мы все, увидев этот крестик, сразу подумали, что она умерла. Однако, прислуга кабачка Ле-Ванта утверждала, будто видела ее проходившею босиком по большой парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти в Вельские ворота, а это не совпадает с остальными показаниями.
Что касается меня, то я полагаю, что она, действительновышла из Вельских ворот, но не для того, чтоб отправиться в Париж, а для того, чтоб отправиться на тот свет.
– Я вас не понимаю, – сказала Жервеза.
– Вельские ворота, – ответила Магиетта с печальной улыбкой, – ведут ведь к реке.
– Бедная Пахита! – воскликнула Ударда, содрогаясь. – Значит, она утопилась!
– Да, утопилась… – произнесла Магиетта. – И мог-ли думать отец ее, добряк Гюиберто, когда он проезжал в лодке под мостом, распевая песни, что в один несчастный день и его дорогая Пахита пройдет под мостом, но только не в лодке и не распевая песен.
– А башмачок? – спросила Жервеза.
– Он пропал вместе с матерью, – ответила Магиетта.
– Бедный башмачок! – произнесла Ударда.
Ударда, толстая и чувствительная женщина, готова была удовольствоваться тем, что вздохнула вслед за Магиеттой. Но Жервеза, как женщина любопытная, не удовлетворилась этим.
– Ну, а что же уродец? – вдруг обратилась она к Магиетте.
– Какой уродец? – спросила та.
– Да тот маленький цыганский уродец, которого эти ведьмы оставили Пахите взамен ее дочери?.. Что с ним сделали? Надеюсь, что и его утопили?
– Ничуть, – ответила Магиетта.
– Как же так – ничуть! Ну, значит, сожгли? Оно, впрочем, так и следовало поступить с отродьем ведьмы.
– Ни того, ни другого, Жервеза. Г. архиепископ принял участие в цыганском ребенке, выгнал из его тела злых духов и дьявола, окрестил и благословил его и отправил в Париж для того, чтобы он был положен там на деревянную кровать в соборе Парижской Богоматери, предназначенную для подкидышей.
– Уж эти мне епископы! – с неудовольствием пробормотала Жервеза. – Они думают, что потому, что они люди ученые, им следует поступать иначе, чем поступают другие люди. Ну, на что это похоже, Ударда? Подкидывать дьявольское отродье в Божьем храме! Ибо не подлежит сомнению, что этот уродец был отродье дьявола… – Ну, и что же, Магиетта, с ним сталось в Париже? Я уверена, что его не пожелал принять к себе ни один добрый христианин.
– Не знаю, – ответила Магиетта. – Как раз около того времени муж мой получил должность сельского нотариуса в Берю, в двух милях от города, и мы совсем было позабыли об этой истории, тем более, что между Берю и Реймсом возвышаются два пригорка, из-за которых не видать даже реймсских колоколен.
Среди этих разговоров три почтенные женщины дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они прошли, не останавливаясь, мимо часовенки возле дома Тур-Ролан, и машинально направились к позорному столбу, вокруг которого толпа становилась все гуще и гуще. По всей вероятности, зрелище, привлекавшее в это время все взоры, заставило бы их совершенно забыть о Крысиной норе и о том, что они собирались сделать возле нее привал, если бы шестилетний толстяк Эсташ, которого Магиетта все тащила за руку, не напомнил им вдруг ближайшей цели их странствования.
– Мама, – сказал он, как будто какой-то инстинкт подсказал ему, что Крысиная нора осталась позади него, – могу теперь съесть лепешку?
Если б Эсташ был похитрее и менее обжорлив, то он подождал бы еще, и только по возвращении к себе домой, в университетский квартал, в улицу Баланс, на квартиру Анри Мюнье, когда его лепешку отделяли бы от Крысиной норы целых два рукава Сены и пять мостов, он рискнул бы сделать этот робкий вопрос:
– Мама, могу я теперь съесть лепешку?
Теперь же этот вопрос оказался как нельзя более неосторожен, ибо он напомнил его матери то, о чем она совсем было забыла.
– Ах, кстати! – воскликнула она, – а мы совсем и забыли про затворницу. Покажите-ка мне вашу Крысиную нору, чтобы я могла отдать затворнице эту лепешку.
– Сейчас, сейчас, – сказала Ударда. – Этим вы сделаете доброе дело.
Но это вовсе не входило в виды Эсташа.
– А-а а! Моя лепешка! – захныкал он, подергивая плечами, что, как известно, обозначает у детей высшую степень неудовольствия.
Все три женщины вернулись назад, и когда они подошли к часовенке, Ударда сказала остальным двум:
– Нам не следует глядеть в окошечко всем троим разом, иначе мы испугаем затворницу. Вы обе сделаете вид, будто вы молитесь, пока я загляну в оконце. Затворница меня немножко знает. Я сделаю вам знак, когда можно будет подойти.
И она одна приблизилась к оконцу. Как только она заглянула в него, на лице ее разлилось выражение глубокого сострадания, и ее веселая и открытая физиономия так же быстро изменилась в цвете, как будто она разом вошла из полосы, освещенной солнцем, в полосу, освещенную лунным светом. Глаза ее покрылись влагою, а губы ее скривились, как будто она готова была разрыдаться. Минуту спустя она, приложив палец к губам, сделала Магиетте знак рукой. Магиетта тотчас же приблизилась на цыпочках, молча и взволнованная, точно она подходила к постели умирающего.
Действительно, невеселое зрелище представилось взорам обеих женщин, которые, не смея ни пошевельнуться, ни вздохнуть, глядели в заделанное решеткой оконце.
Каморка была тесная, более широкая, чем глубокая, со сводом, и несколько напоминала своей формой верхнее отверстие в митре католического епископа. На голых плитах, служивших ей полом, в углу сидела, или, вернее сказать, скорчилась женщина. Она упиралась подбородком на колена свои, которые она, обхватив обеими руками, крепко прижимала к груди. В такой позе, облеченная в какой-то коричневого цвета мешок, ниспадавший с тела ее широкими складками, с длинными, седыми волосами, ниспадавшими вдоль ее туловища и ног до самого пола и закрывавшими ей лицо, она, при первом взгляде на нее, представляла собою какую-то странную массу, еле выделявшуюся на темном фоне кельи, какой-то черноватый треугольник, который луч света, пробившийся сквозь оконце, резко разделял на две половины, – одну темную, другую освещенную. Она походила на одно из тех привидений, наполовину озаренных светом, наполовину темных, которые встречаются на картинах Гойи, бледных, неподвижных, мрачных, сидящих на какой-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Это не была ни женщина, ни мужчина, ни живое существо, ни определенная форма: это была просто какая-то фигура, какое-то видение, в котором действительное сливалось с призрачным, подобно тому, как в сумерках свет сливается с тьмою. Под ее свесившимися до полу волосами с трудом можно было разглядеть исхудалый и строгий профиль; из-под ее платья едва выглядывал носок босой ноги, упиравшийся в холодный и сырой пол. То немногое, что глаз зрителя мог разглядеть из-за этой траурной оболочки, заставляло его содрогаться.
Можно было бы подумать, что фигура эта наглухо прикреплена к плитам, – до того она была неподвижна; даже незаметно было, чтоб она дышала. Пребывая дни и ночи в одном только дырявом мешке своем, босоногая, в январе месяце, на гранитных плитах, без огня, в сырой дыре, сквозь маленькое оконце которой проникал только ветер, но не проникал ни один солнечный луч, – она, однако, казалось, не только не страдала, но даже ничего не чувствовала. Она как будто окаменела вместе с камнем, на котором сидела, обледенела вместе с врывавшимся к ней ледяным ветром. Глаза ее были неподвижно устремлены в одну точку, руки ее были сложены, как бы для молитвы. При первом взгляде на нее ее можно было бы принять за привидение, при втором – за истукана. Только от времени до времени ее посинелые губы слегка приоткрывались, чтоб испустить вздох, и дрожали, но оставались и при этом столь же безжизненны и машинальны, как осенние листья, уносимые ветром. По временам же ее потускневшие глаза бросали взгляд, но взгляд какой-то мрачный, упорный, глубокий, устремлявшийся всегда в одну и ту же точку, в угол конуры, которого нельзя было разглядеть снаружи, – взгляд, который, казалось, связывал все мрачные мысли, роившиеся в этой опечаленной душе, с каким-то таинственным предметом.
Таково было существо, которое народ прозвал, в виду ее обиталища, «затворницей», а в виду ее одеяния – «мешочницей».
Все три женщины, – Жервеза успела присоединиться к Магиетте и Ударде, – глядели в оконце. Их головы мешали проникнуть в конуру и тем слабым лучам света, которые пробивались в него сквозь оконце; но несчастная, которую они таким образом лишили его, казалось, не обращала на них ни малейшего внимания.
– Не будемте ей мешать, – потихоньку сказала Ударда, – она в забытьи, она молится.
Магиетта смотрела все с более и более возрастающим волнением на это истощенное, увядшее лицо, на эту косматую голову, и на глазах ее выступили слезы.
– Вот то было бы странно! – пробормотала она.
Ей удалось просунуть голову сквозь решетку оконца и заглянуть в тот угол, от которого несчастная не отрывала своих взоров. Когда она вынула свою голову из-за решетки, лицо ее было все мокро от слез.
– Как вы называете эту женщину? – спросила она у Ударды.
– Мы называем ее сестрой Гудулой, – ответила та.
– А я называю ее Пахитой Шанфлери, – сказала Магиетта. И затем, приложив палец к губам, она знаком пригласила Ударду просунуть свою голову сквозь решетку и заглянуть в угол. Ударда заглянула и увидела в том углу конуры, от которого затворница не отрывала глаз своих, маленький розовый башмачок, искусно вышитый золотом и серебром. После Ударды туда же заглянула Жервеза, и затем все три женщины, глядя на несчастную мать, принялись плакать.
Однако, ни взоры их, ни слезы не обратили на себя внимания затворницы. Руки ее по прежнему оставались сложенными, уста ее безмолвными, глаза устремленными в одну точку, а у тех, кому известна была история ее жизни, сердце разрывалось на части при виде этого башмачка.
Все три женщины долго хранили молчание; они не решалась говорить, даже шепотом. Это великое горе, это забвение всего, кроме одной, незначительной вещицы; это безмолвие производили на них такое же впечатление, как вид гроба. Они молчали, они были тронуты, они готовы были стать на колени. Им казалось, будто они только что вошли в церковь во время службы на Страстной неделе.
Наконец, Жервеза, самая любопытная и поэтому наименее чувствительная из всех, попробовала окликнуть затворницу.
– Сестра Гудула, а сестра Гудула! – проговорила она.
Она трижды повторила этот оклик, каждый раз возвышая голос. Но затворница оставалась неподвижной: ни взгляда, ни вздоха, ни слова, ни малейшего признака жизни.
Ударда окликнула ее в свою очередь более мягким и ласковым голосом:
– Сестра! А сестра Гудула!
То же молчание, та же неподвижность.
– Странная женщина! – воскликнула Жервеза. – Ее, кажется, и пушками не прошибешь!
– Быть может, она глуха! – заметила Ударда.
– Быть может, слепа, – присовокупила Жервеза.
– А, может быть, она умерла! – воскликнула Магиетта.
Несомненно, во всяком случае, то, что если душа не покинула еще этого неподвижного, заснувшего как бы летаргическим сном тела, то, во всяком случае, она удалилась и спряталась в какие-то закоулки, до которых не достигали ощущения, воспринимаемые органами.
– Придется, значит, – сказала Ударда, – оставить лепешку в оконце. Но тогда какой-нибудь шалун, пожалуй, утащит ее. Как бы заставить ее очнуться?
Эсташ, внимание которого до сих пор было отвлечено только что проехавшей мимо них небольшой тележкой, которую везла большая собака, вдруг заметил, что все три женщины смотрят на что-то в оконце; его разобрало детское любопытство, и он, взлезши на тумбу, встал на носки и, приблизив свое пухлое, розовое личико к оконцу, воскликнул:
– Мама, дай и мне посмотреть!
Услышав этот звонкий, свежий, чистый детский голосок, затворница вздрогнула. Она быстро повернула голову, точно она была у нее на пружинах, откинула назад своими исхудалыми руками ниспадавшие ей налицо волосы и устремила на ребенка свои удивленные, полные горечи и отчаяния глаза. Взор ее сверкнул, точно молния.
– О, великий Боже, не приводи мне, по крайней мере, на глаза чужих детей! – вдруг воскликнула она, уткнувшись лицом в колена, и, казалось, будто хриплый голос ее разрывал ей грудь.
– Здравствуйте, сударыня, – произнес ребенок с важностью.
Это потрясение, казнюсь, пробудило затворницу. Дрожь пробежала по всему ее телу, с ног до головы; она застучала зубами, немного приподняла голову и сказала, прижав локти к бедрам и схватив обе свои ноги руками, как бы для того, чтобы угреть их:
– У-у! как холодно!
– Бедная женщина! – сказала растроганная Ударда. – Не развести ли вам огня?
Затворница покачала головою в знак отрицания.
– Ну, так вот вам немного глинтвейну, – продолжала Ударда, протягивая к ней какую-то склянку. – Выпейте! Это согреет вас.
Та снова покачала головой в знак отказа, пристально посмотрела на Ударду и проговорила:
– Воды!
Но Ударда стояла на своем.
– Нет, сестра моя, какой же это напиток для января месяца, – вода? Вам нужно выпить немного глинтвейну и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас.
Она оттолкнула лепешку, которую протягивала ей Магиетта, и произнесла:
– Черного хлеба!
– Нате вам, – сказала Жервеза, которую, в свою очередь, охватило чувство сострадания, снимая с себя свою суконную накидку, – этот плащ будет потеплее вашего. Накиньте-ка его себе на плечи.
Но та отказалась и от накидки, подобно тому, как прежде отказалась от глинтвейна и от лепешки, и ответила:
– Мешок.
– Да ведь должны же и вы чем-нибудь помянуть вчерашний праздник, – сказала добрая Ударда.
– Я и без того замечаю, что был праздник, – сказала затворница, – вот уже два дня, что в моей кружке нет ни капли воды. – И, помолчав немного, она прибавила, – По праздникам меня забывают – и хорошо делают. Зачем же людям помнить обо мне, когда я совершенно забыла их? Если уголья погасли, зола делается холодною.
И, как бы уставши от такой длинной речи, она снова опустила голову на колена. Простоватой и сердобольной Ударде послышалась в этих последних словах жалоба на холод, и она опять самым наивным голосом спросила ее:
– Так не хотите ли, мы вам разведем огонь?
– Огонь?.. – спросила затворница с каким-то странным выражением голоса. – А хватит ли его у вас для той бедной малютки, которая уже пятнадцать лет как лежит под землей?
Она вся затряслась, голос ее дрожал, глаза ее сверкали, и она приподнялась на колена. Вдруг она протянула свою белую и худую руку по направлению к смотревшему на нее ребенку и воскликнула:
– Унесите скорей ребенка! Сейчас придет цыганка!
И с этими словами она повалилась на землю, причем лоб ее, ударившись о плиту, издал такой же звук, какой издает камень, стукнувшись о камень. Все три женщины подумали, что она умерла. Однако, несколько мгновений спустя, она зашевелилась, и они увидели, как она на коленях и на локтях поползла в тот угол, где лежал детский башмачок. Они не решились заглянуть в оконце, но им ясно слышны были бесчисленные вздохи и поцелуи, перемежавшиеся с раздирающими душу криками и с глухим стуком, происходившим как будто от ударов головою об стену. Наконец, после одного из таких стуков, столь сильного, что они все трое зашатались, они ничего более не слыхали.
– Неужели она убилась? – сказала Жервеза, рискнув, наконец, просунуть голову в оконце. – Сестрица! Сестра! Гудула!
– Сестра Гудула! – повторила Ударда.