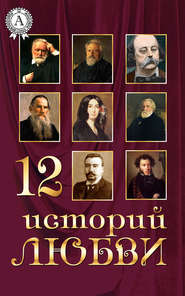скачать книгу бесплатно
Но пылкий архидиакон не дал договорить ему.
– А я изучал и алхимию, и астрологию, и медицину! Вот только в этом и кроется истина (и с этими словами он взял с сундука банку, наполненную тем порошком, о котором мы говорили выше), только в этом и есть свет! Гиппократ – это мечта, Урания – это мечта, Гермес – это мечта! Золото – это солнце; уметь создавать золото – это значит уподобиться Богу. Вот единственная наука! Я основательно изучил медицину и астрологию, повторяю вам, и утверждаю, что это – суета сует. Тело человеческое – потемки; светила небесные – тоже потемки.
И он откинулся назад на своем кресле с вызывающим и вдохновенным выражением лица. Туранжо глядел на него молча. Коактье принужденно улыбался, незаметно пожимал плечами и повторял вполголоса:
– Безумец, безумец!
– Ну, и что ж, – вдруг спросил его Туранжо: – достигли ли вы чудесной цели, удалось ли вам сделать золото?
– Если бы мне это удалось, – ответил архидиакон с расстановкой, как человек, погруженный в свои мысли: – то король Франции назывался бы Клодом, а не Людовиком.
Туранжо нахмурился.
– Впрочем, что я говорю! – продолжал Клод с презрительной улыбкой. – Для чего бы мне нужен был французский престол, если бы я тогда мог восстановить Римскую империю?
– Вот как! – воскликнул Туранжо.
– Ах, несчастный безумец! – пробормотал Коактье. Архидиакон продолжал, обращаясь, по-видимому, более к самому себе, чем к своим собеседникам:
– А между тем я еще продолжаю ползать, я царапаю себе лицо и колена о камни подземного хода. Я лишь подсматриваю, а не гляжу прямо; я читаю только по складам.
– А когда вы научитесь читать, как следует, вы тогда сумеете делать золото? – спросил Туранжо.
– Какое же в том может быть сомнение! – воскликнул архидиакон.
– Видит Бог, я очень нуждаюсь в деньгах, и я очень желал бы научиться читать в ваших книгах.
А скажите, пожалуйста, мой досточтимый, ваша наука неугодна Богу?
На этот вопрос Клод ответил с величественным спокойствием:
– А чей же я слуга?
– Ваша правда, сударь. Ну, так не согласитесь ли вы научить меня? Познакомьте меня хоть с азбукой.
Клод принял величественный и жреческий вид какого-нибудь патриарха.
– Старик, для того, чтобы предпринять это путешествие по области неведомого, потребуются многие годы, и вашего века, пожалуй, не хватит на это. Ведь вы уже седы. А между тем в пещеру нельзя войти иначе, как с черными волосами, для того, чтобы выйти из нее седым. Наука и одна, сама по себе, избороздит лицо человека, высушит его и заставит, его завянуть; она не нуждается в том, чтобы старость приводила к ней уже морщинистые лица. Если, однако, вас разбирает охота приниматься в ваши годы за указку и начинать учиться с трудной азбуки мудрецов, то, пожалуй, приходите ко мне, я попытаюсь. Я не заставлю вас, старика, отправляться осматривать ни пирамиды, усыпальницы египетских царей, о которых говорит Геродот, ни Вавилонскую башню, ни громадный алтарь из белого мрамора индийского храма Эклинга. Я, подобно вам, не видел халдейских построек, сооруженных на основании предписаний священных книг Сихра, ни Соломонова храма, который, впрочем, давно уже разрушен, ни каменных дверей от гробниц Израильских царей, которые давно уже разбиты. Мы ограничимся отрывками из книги Меркурия, которая лежит вон там. Я дам вам объяснения относительно статуи св. Христофора, символа сеятеля, и относительно двух ангелов у св. часовни, из коих один поднял руку в облака, а другой опустил свою руку в сосуд…
Здесь Жак Коактье, которого прежние резкие ответы архидиакона отчасти смутили, несколько оправившись, решился перебить его торжествующим тоном ученого, изловившего на неточности своего собрата, и сказал: – вы ошибаетесь, любезный Клод: символ и число не одно и то же; вы смешали Орфея с Меркурием.
– Нет, это вы ошибаетесь, – серьезно ответил архидиакон. – Дедал – это фундамент; Орфей – это стена; Меркурий – это целое здание, это все. – Вы можете приходить, когда вы того пожелаете, – продолжал он, обращаясь к Туранжо. – Я покажу вам частицы золота, оставшиеся на дне плавильника Николая Фламеля, и вы можете сравнить их с настоящим золотом. Я познакомлю вас с таинственной силой греческого слова ?????????. Но прежде всего я заставлю вас прочесть, одну за другою, мраморные буквы алфавита, гранитные страницы книги; мы направимся от дверей епископа Гильома и св. Иоанна Круглого к священной часовне, затем к дому Николая Фламеля в улице Мариво, к гробнице его на кладбище избиенных младенцев, к двум больницам в улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре большие, чугунные тагана, стоящие у главного входа в госпиталь Сен-Жерве и на улице Ферронери. Мы затем изучим вместе фасады св. Косьмы, св. Женевьевы, св. Мартина, св. Якова…
Туранжо, казавшийся, однако, человеком далеко не глупым, как заметно было по выражению лица его, давно уже перестал понимать Клода. Наконец, он перебил его восклицанием:
– Однако, что же это за книги такие, о которых вы мне говорите? Я что-то ничего не слыхал о них!
– А вот одна из этих книг, – ответил архидиакон, раскрыв окно своей кельи и указывая пальцем на огромный собор Парижской Богоматери, который, обрисовываясь на звездном небе черными силуэтами обеих башен, своих стен и своего купола, казался огромным, двуглавым сфинксом, усевшимся среди города.
Архидиакон в течение некоторого времени молча глядел на гигантское здание, затем, протянув со вздохом правую руку к лежавшей на его столе развернутою печатной книге, а левую руку к собору, и переводя печальный взор от книги к собору, проговорил:
– Увы! Это убьет то!
Коактье, поспешно заглянувший в книгу, не мог удержаться от того, чтобы не воскликнуть:
– Ну, что же в этом особенно страшного? «Примечания к посланиям апостола Павла. Нюренберг, Антоний Кобургер, 1474». Это далеко не новость. Это сочинение Петра Ломбардца, толкователя притч. Разве вот то, что это напечатано?
– Именно это, – ответил Клод, погруженный, по-видимому, в глубокую задумчивость и уставив указательный палец на фолиант, вышедший из знаменитой в то время Нюренбергской печатни. Затем он произнес следующие таинственные слова: – Увы! увы! Мелочные вещи торжествуют над крупными; зуб раздирает массу. Фараонова мышь убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание.
В это время на колокольне собора раздался звон о тушении огня, между тем, как доктор Коактье потихоньку повторял своему спутнику вечный припев свой: – «он помешан»; на что его товарищ на этот раз ответил: – «и мне так кажется».
После этого часа никто из посторонних не мог оставаться в монастыре, и оба посетителя удалились.
– Г. архидиакон, – сказал Туранжо, прощаясь с Клодом, – я люблю людей ученых и умных, и поэтому я питаю к вам особое уважение. Приходите завтра в Турнельское аббатство и спросите аббата Сен-Мартена из Тура.
Архидиакон, проводив своих гостей, возвратился в свою комнату как бы ошеломленный, ибо он, наконец, понял, кто такой был кум Туранжо; он вспомнил следующее место из монастырской грамоты, хранившейся в Турском аббатстве: «Аббат Сен-Мартен, то есть король Франции, считается каноником аббатства, и пользуется частью доходов с нее, как преемник св. Венанция, и он должен сидеть на казначейском кресле».
Уверяли, что, начиная с этого времени, архидиакон часто беседовал с королем Людовиком XI, когда последний приезжал в Париж, и что доверие, которым пользовался у короля Клод, возбуждало зависть давнишних любимцев Людовика XI, Олливье Ле-Дэна и Жака Коактье; последний будто бы даже не раз попрекал за это короля.
II. Это убьет то
Просим у читательниц наших извинения в том, что мы остановимся на минуту для исследования того, какая мысль могла скрываться в загадочных словах архидиакона: «Это убьет то. Книга убьет здание».
По нашему мнению, эта мысль имела две стороны. Во-первых, это была мысль священника; в ней сказывался испуг церковнослужителя в виду появления новой силы – печати. Это было страх и ослепление служителя алтаря при виде рассеивающего мрак станка Гуттенберга. Это были церковная кафедра и рукопись, слово устное и слово письменное, испугавшиеся слова печатного; это было нечто подобное испугу пташки, вдруг увидевшей, как ангел Легион взмахнул своими шестью миллионами крыльев. Это был крик пророка, уже чующего и предвидящего эмансипацию человечества, уже видящего умственным взором то время, когда рассудок окончательно подкопается под веру, разум свергнет с престола набожность, мир потрясет Рим. Это было предвидение философа, который видит человеческую мысль, получившую летучесть благодаря печатному станку, испаряющуюся из теократического приемника. Это был ужас воина, смотрящего на железный таран и говорящего сам себе: «Башне не устоять». Это означало, что одна сила идет на смену другой. Это означало: «Печать убьет церковь».
Но за этой мыслью, самой простой и прежде всего приходящей на ум, скрывалась, по нашему мнению, и другая, составлявшая как бы заключение первой, но менее очевидная и более спорная, мысль более философская, принадлежавшая не столько священнику, сколько философу и артисту, а именно та мысль, или, вернее сказать, предчувствие, что человеческая мысль, изменяя форму, изменит и способ выражения, что руководящая мысль каждого поколения уже не будет писаться тем же способом и с помощью тех же средств, что каменная книга, столь прочная и твердая, уступит место другой книге, еще более прочной и твердой. В этом отношении неопределенная формула архидиакона имела еще и другой смысл: она означала, что одно искусство вытеснит другое; она сводилась к тому, что книгопечатание убьет архитектуру.
Действительно, начиная с первого появления гражданственности и кончая ХV-м столетием христианской эры включительно, архитектура представляла собою великую книгу человечества, выражала собою различные фазисы развития человечества, в смысле как материальном, так и интеллектуальном. Когда память первых времен почувствовала себя чересчур обремененной, когда количество воспоминаний рода человеческого сделалось настолько значительным, что летучему слову предстояла опасность растерять часть их по пути, тогда их стали изображать самым очевидным, самым прочным и в то же время самым естественным образом: каждое из этих воспоминаний запечатлели под видом памятников.
Первые из этих памятников были простые обрубки скал, «до которых не прикасалось железо», – говорит Моисей. Архитектура, как и письмо, началась с азбуки: ставили стоймя камень, и это была буква, и каждая буква была иероглифом, и в каждом иероглифе изображена была известная группа мыслей, как на капители здания. Так поступали первобытные племена одновременно, везде, на пространстве всего земного шара. Стоячие камни кельтов можно найти как в Сибири, так и в южно-американских пампасах.
Впоследствии из букв стали образовываться слова: стали класть камень на камень, складывать гранитные слоги, а из известной комбинации слогов образовать слова. Кельтские дольмены и кромлехи, этрусские курганы, еврейские известковые кладки, – все это те же слова. Некоторые из этих сооружений, в особенности курганы, – имена собственные. Иногда, когда в распоряжении писавшего было много камней и много места, он писал целые фразы. Большая груда друидических камней в Карнаке представляет собою уже целую длинную фразу.
Наконец, дело дошло и до книг. Предания вызвали символы, под которыми они исчезали, как исчезает под листвой древесный ствол. Все эти символы, в которые верило человечество, все более и более росли, умножались, усложнялись. Первых памятников оказалось недостаточно для изображения всех этих символов: их хватало только на то, чтобы изображать первобытные предания, столь же голые, простые и близкие к почве, как и самые эти памятники. Символу пришлось искать выражения в здании. Результатом этого явилось то, что архитектура стала развиваться вместе с человеческой мыслью, что она превратилась в тысячеголового и тысячерукого великана, и что она придала видимую, вечную, осязательную форму этому, так сказать, летучему символу. Между тем, как Дедал, олицетворение силы, измерял, между тем, как Орфей, олицетворение ума, пел, – столб, олицетворение буквы, свод, олицетворение слога, пирамида, олицетворение слова, двинутые разом по законам геометрии и поэзии, группировались, комбинировались, сливались, возвышались, опускались, выстраивались рядом по земле, громоздились к небу до тех пор, пока им не удавалось написать, под диктовку общей идеи известной эпохи, эти чудные книги, представлявшие собою также и чудные здания: пагода Эклинга, капище Рамзеса, храм Соломона.
Идея-мать, слово, были выражены не только в сущности этих зданий, но и в форме их. Так, например, Соломонов храм был не только простым переплетом священной книги, – это была сама священная книга. На каждой из его концентрических оград священники могли прочесть переведенное, изображенное графически слово, и им представлялась возможность следить за преобразованием этого слова от одной святыни до другой, до тех пор, пока они добирались до конечного смысла его в последней его скинии, в самой конкретной, опять-таки архитектурной форме – ковчеге. Таким образом, слово было заключено в здании, но образ его был изображен на этой оболочке, подобно тому, как человеческое лицо изображено на гробнице мумии.
И не только форма зданий, но и избираемое для них место свидетельствовало о той идее, которую они изображали собой. Смотря по тому, требовалось ли представить веселый или мрачный символ, Греция воздвигала приятные для глаза храмы на горах, а Индия врывалась в недра своих гор для того, чтобы высечь в них безобразные подземные пагоды, поддерживаемые гигантскими рядами гранитных столбов.
Таким образом, в течение шести тысячелетнего существования мира, начиная с воздвигнутой в самые незапамятные времена пагоды Индостана и кончая Кельнским собором, архитектура всегда являлась гигантскими письменами рода людского, и это до такой степени верно, что не только всякий религиозный символ, но и всякая человеческая мысль имеют свой памятник и свою страницу в этой громадной книге.
Всякая цивилизация начинается с теократии и кончается демократией. Этот закон свободы, следующей после единовластия, сказывается и в архитектуре; ибо зодчество, – мы особенно напираем на это, – отнюдь не ограничивается одним только возведением здания, одним только выражением мифа и жреческого символизма, переписыванием разными иероглифами на свои каменные страницы таинственных скрижалей завета. Если бы было так, то в виду того, что во всяком человеческом обществе наступает момент, когда священный символ стирается и изглаживается под влиянием свободной мысли, когда человек выходит из-под ферулы жреца, когда наросты философских систем разъедают религию, – архитектура не в состоянии была бы воспроизвести это новое состояние человеческого ума, были бы исписаны только первые страницы ее, между тем, как последние оставались бы пустыми; ее дело было бы недоконченным, ее книга неполна. А между тем мы на деле видим совершенно иное.
Возьмем для примера средние века, в которых мы скорее можем разобраться, потому что они ближе к нам. В течение первого периода, в то время, когда теократия организует Европу, когда Ватикан собирает и группирует вокруг себя элементы перестроенного Рима, создавшегося на валяющихся вокруг Капитолия развалинах рухнувшего Рима, когда христианство старается разыскать в развалинах языческой цивилизации материал, пригодный для переустройства общества на новых началах и строит из этих обломков новое иерархическое здание, в котором духовенство является замочным камнем свода, – сначала смутно чуется среди всеобщего хаоса, а затем и ясно сознается, как под влиянием христианства, под рукою варваров, из обломков древней греко-римской архитектуры, возникает романская архитектура, – эта сестра египетского и индийского зодчества, эта неизменная эмблема чистого католицизма, эти нестираемые иероглифы папского единства. Действительно, все мышление той эпохи вылилось в одном мрачном романском стиле. В нем всюду чувствуется власть, единство, абсолютизм, непреклонность Григория VII; в нем везде виден священник, а нигде не виден человек; в нем нашла себе выражение каста, а не народ.
Но вот наступает эпоха крестовых походов. Это, во всяком случае, сильное народное движение, а каждое народное движение, каковы бы ни были причины и цели его, всегда оставляет после себя, в конце концов, в виде осадка, дух свободы. На свет Божий выступает нечто новое. Затем следует бурный период народных движений, известных в истории под названием «Jacqueries», «Pragueries» и лиги. Власть колеблется, единовластие раздвоилось. Феодализм требует у теократии доли власти, в ожидании того, пока, в свою очередь, на сцену выступит народ, который и потребует себе львиной доли ее: на то он и лев! Итак, сквозь духовенство пробивается уже дворянство, а сквозь дворянство – община. Европа изменилась, а вместе с нею изменилась и архитектура. Она вместе с цивилизацией перевернула страницу, и новый дух времени застает ее готовой писать под ее диктовку: она принесла с собою из крестовых походов стрельчатые своды, подобно тому, как народы принесли с собою свободу, и мало-помалу, вместе с властью римского первосвященника, умирает и романская архитектура. Иероглифы исчезают из церкви и находят себе убежище в феодальных замках, так как дворянство рассчитывает придать себе этим более блеска. Самый храм, это в былое время столь догматическое здание, делается достоянием буржуазии, общины, свободы, освобождается из-под власти священника и делается достоянием художника. Последний перестраивает его по-своему. Все таинственное, мифическое, традиционное исчезает из него, уступая место фантазии и капризу. Достоянием священника остаются только царские врата и алтарь, – стены же принадлежат художнику. Архитектурная книга переходит из рук религии, Рима, священника в область воображения, поэзии, в руки народа. Этим объясняются быстрые и бесчисленные изменения этой архитектуры, век которой не превышает трех столетий, после неподвижного, стоячего существования романской архитектуры, господствовавшей в течение шести или семи столетий. Тем временем искусство продолжает идти вперед исполинскими шагами. Народный гений и народная оригинальность принимаются за то дело, которое всецело принадлежало епископам. Всякое племя записывает что-нибудь в этой книге. Оно выскабливает старые римские иероглифы на передних фасадах соборов, и старинные догматы еле-еле просвечивают там и сям под новыми символами, которые теперь стали находить себе здесь место. Под национальной оболочкой уже становится трудным отличить религиозный остов. В эту эпоху для мысли, выраженной в камне, являются такие привилегии, которые можно было бы сравнить с современной нашей свободой печати, и которые можно было бы назвать «свободой архитектуры».
Эта свобода заходит, однако ж, слишком далеко. Случается, что не только главные двери, но даже и целый фасад, даже целый храм изображают собою символический смысл, не только не соответствующий, но даже и прямо враждебный идее церкви. Гильом Парижский в XIII веке, Николай Фламель в XV-м нередко позволяли себе такие вольности. Олицетворением их является церковь св. Якова в Мясниках.
В то время свобода мысли существовала только в этой области, и поэтому она и могла проявиться только в тех книгах, которые называют зданиями. Если бы те же мысли, которые были проявлены в зданиях, были высказаны в книгах, то последние были бы сожжены рукою палача на торговой площади, предположив, конечно, что они были бы настолько неосторожны, чтобы проявиться в этой форме; и мысль, выраженная в фасаде церкви, присутствовала бы при публичной казни мысли, выраженной в книге. Потому свободная мысль, не находя иного способа проявиться на свет Божий, кроме архитектуры, ринулась в эту область. Этим только и объясняется то громадное количество церквей и соборов, которые воздвиглись по всей Европе, количество до того поразительное, что с трудом в него веришь, даже проверив его. Все материальные, все интеллектуальные силы тогдашнего общества сходились к одному общему центру – к архитектуре. Таким образом, под предлогом сооружения храмов Божиих, искусство распространялось все шире и шире.
В те времена всякий человек, одаренный поэтической натурой, делался архитектором. Народный гений, рассеявшись в массе, стесняемый отовсюду как феодализмом, так и военщиной, не находя иного выхода, кроме архитектуры, выливался именно в формы этого искусства, и его Илиады облекались в форму церквей. Все остальные искусства в ту эпоху беспрекословно подчинялись архитектуре; они шли в учение к великому мастеру. Архитектор-поэт указывал скульптору, как изваять нужные для воспроизведения его идеи скульптурные произведения на фасаде здания, живописцу – как разрисовать разноцветные стекла здания, звонарю – как развесить колокола и каким образом добывать из них наиболее полные и гармоничные звуки. Даже самая жалкая в то время, в тесном смысле слова, поэзия, влачившая жалкое существование в рукописях, нашла нужным, для того, чтобы сделаться чем-либо, пристроиться к зданию, под видом ли гимна или прозаического прославления, – все равно; другими словами, разыграть ту же роль, которую разыгрывали трагедии Эсхила в элевзинских играх Греции, или книга Бытия в Соломоновом храме.
Итак, вряд ли может быть сомнение в том, что до Гуттенбгрга зодчество являлось главным всемирным письмом. Эта гранитная книга, начатая Востоком, продолженная Грецией и Римом, была дописана средними веками.
Отличительной чертой всякой теократической архитектуры являются неподвижность, отвращение от прогресса, сохранение традиционных линий, сохранение первоначальных типов, подчинение человека и всей природы непонятным требованиям символизма. Это такие непонятные книги, которые могут читать только люди, посвященные в эту тайну. Впрочем, и здесь каждый образ, даже каждое безобразие имеют свой смысл, делающий их неприкосновенными. Странно было бы с вашей стороны требовать от индусских, египетских, римских построек, чтобы они переделали свой рисунок или ввели большее разнообразие в своей скульптуре. Всякое улучшение было бы с их стороны святотатством. Архитектура недаром имеет дело с камнями: и она, в конце концов, окаменевает.
Новейшие, неклассические, так сказать, популярные постройки, напротив, доступны прогрессу: здесь может иметь место оригинальность, фантазия, стремление к красоте. они уже настолько сделались чужды религии, что им можно подумать и о красоте, и о том, чтобы делать более красивыми древние статуи, старинные арабески. они идут вместе с веком. В них есть нечто человеческое, что они неукоснительно стараются привить к тому божественному, которым они окружены. Между старинной архитектурой и этой, якобы, новейшей существует та же разница, которая существует между классическим языком и языком вульгарным, между иероглифами и искусством, между Соломоном и Фидиасом.
Если резюмировать то, что мы обозначили здесь вкратце, допустив тысячи доказательств и тысячи частностей, то неизбежно придешь к следующему выводу: что зодчество до пятнадцатого столетия было главным руководителем человечества; что в этот период не появлялось на свете ни одной сколько-нибудь выдающейся мысли, которая не выразилась бы в здании; что всякое народное стремление, как и всякая религиозная мысль, выразились в той или другой архитектурной форме; что, наконец, не было ни одной сколько-нибудь серьезной человеческой мысли, которая не выразилась бы в камне. А почему? – Потому, что всякая мысль, как религиозная, так и философская, старается увековечиться, потому что идея, взволновавшая одно поколение, стремится взволновать и другое, и, в конце концов, оставить по себе след. А какие же ручательства бессмертия представляет собою рукопись? Здание, несомненно, представляет собою книгу гораздо более прочную, гораздо менее подверженную изменениям времени. Для того, чтобы уничтожить писанное слово, достаточно губки и книжного червя. Для того чтобы уничтожить каменное слово, необходимы или землетрясение, или общая революция. Однако и варвары не разрушили Колизея, и потоп не смысл пирамид.
В пятнадцатом столетии все изменяется.
Человеческая мысль находит средство увековечиться не только более прочным и более нетленным способом, чем путем архитектуры, но даже более простым и легким.
Зодчество свергнуто с престола: каменные буквы Орфея заменены свинцовыми буквами «Гуттенберга, книга убьет здание».
Изобретение книгопечатания – это величайшее из всех исторических событий, это – мать всех революций. Способ выражения мыслей человечества радикально изменился; человеческая мысль скинула с себя одну форму и облеклась в другую; тот символический змий, который со времен Адама представляет собою знание, окончательно переменил кожу.
Под видом печати человеческая мысль более нетленна, чем когда-либо; она сделалась летучей, неуловимой, неразрушимой. Она стала носиться в воздухе. Во времена господства зодчества она делалась горою и мощно овладевала целым веком. Теперь же она мелкими пташками носится по воздуху, витает к поднебесью, спускается на землю.
Еще раз повторяем, что в этом виде человеческая мысль является гораздо более неразборчивой. Прежде она представляла собою нечто устойчивое, теперь она сделалась веществом летучим. Прежде она была прочна, теперь она – бессмертная. Массу разрушить еще можно, но как истребить вездесущность? Если последует наводнение, гора скроется под волнами, между тем как птицы все еще будут носиться в воздухе, и если только один ковчег уцелеет от потопа, они сядут на него для отдыха, удержатся вместе с ним на поверхности, будут присутствовать вместе с ним при спаде вод, и новый мир, который возникнет из этого хаоса, увидит при возрождении своем носящуюся над ним, крылатую и живую мысль поглощенного водою мира.
Нужно заметить еще и то, что этот способ выражения человеческой мысли представляется не только самым прочным, но и самым простым, самым удобным, самым сподручным всякому, что он не тащит за собою тяжелого обоза и громоздкого багажа, что между тем, как мысль, будучи вынуждена найти себе выражение в здании, должна прибегнуть еще к четырем или пяти другим искусствам и требует бочек золота; целых гор камней, целого леса стропил, целых тысяч рабочих, – для мысли, выраженной в форме книги, достаточно клочка бумаги, нескольких капель чернил и одного гусиного пера, – то нечего удивляться тому, что человеческий ум променял зодчество на печатный станок. Проведите от первоначального русла реки канал, горизонт которого будет ниже этого русла, и река немедленно покинет старое русло свое.
Поэтому нечего удивляться тому, что, начиная с открытия книгопечатания, зодчество мало-помалу высыхает, атрофируется, оголяется. Сейчас же чувствуется, что уровень вод понижается, соки исчезают, мысль веков и народов улетучивается из созданий зодчества. В пятнадцатом столетии это охлаждение еще еле заметно, так как печать еще слишком слаба и в крайнем случае может оттянуть от могучего зодчества лишь излишек соков. Но уже начиная с XVI-го столетия зодчество начинает заметно хиреть. Оно уже перестает являться самым существенным выражением общественной мысли; оно усваивает себе жалкую классическую форму; из европейского, туземного, галльского оно делается греческим и романским, из истинного и современного – псевдоантичным. И этот-то упадок называют возрождением. Впрочем, и этот упадок не лишен своего рода величия, ибо старый, готический гений, это солнце, заходящее за гигантским майнцским печатным станком, освещает еще некоторое время последними лучами своими эту разнородную кучу римских аркад и коринфских колоннад. А мы-то принимаем лучи заходящего солнца за утреннюю зарю.
Однако, начиная с того момента, когда зодчество становится лишь одним из видов искусства в числе многих других, с тех пор, как оно перестает олицетворять собою все искусство, искусство властителя, искусство тирана, оно уже не в состоянии удерживать натиск остальных искусств. Все они освобождаются, разрывают цепи, наложенные на них зодчим, и разлетаются в разные стороны. И все они только выигрывают от этого, так как все, предоставленное своим собственным силам, неизбежно крепнет. Скульптура превращается в ваяние, иконопись – в живопись, канон – в музыку; точно бывшая империя Александра Великого, расчленившаяся после его смерти, и все части которой превратились в отдельные царства. Отсюда сделалось возможным появление Рафаэлей, Микель-Анджело, Жанов Гужонов, Палестрин, – этих светил, озаривших своим блеском шестнадцатый век.
Одновременно с художествами и человеческая мысль всесторонне эмансипируется. Средневековые ересиархи уже сделали разрезы на теле католицизма, а XVI-й век нанес окончательный удар религиозному единству. Не будь книгопечатания, реформация была бы только ересью; книгопечатание придало ей характер переворота. Без печати свобода вероучения немыслима. Простая ли это случайность, или предопределение Провидения, но, во всяком случае, Гуттенберг является прямым предшественником Лютера.
Как бы то ни было, но когда средневековое солнце совершенно зашло, когда готический гений навсегда скрылся с горизонта искусства, зодчество все более и более тускнеет, обесцвечивается, сглаживается. Печатная книга, этот червь, подтачивающий здание, высасывает и пожирает его. Оно заметно для глаза теряет листья, тощает, хиреет, мельчает, беднеет, превращается в ничтожество. Оно уже ничего более не выражает, даже воспоминания о былом искусстве. Будучи вынуждено питаться собственными своими соками, покинутое другими видами искусства, потому что оно не в состоянии идти в уровень с развитием человеческой мысли, оно, за неимением художников, прибегает к ремесленникам. Простые стекла заменяют расписные, камнетес занимает место скульптора; вся сила, вся оригинальность, вся жизнь, весь разум архитектуры исчезают, и она начинает нищенски пробавляться жалкими копиями. Микель-Анджело, который уже в XVI-м веке предвидел ее неизбежную и притом близкую смерть, вздумал было прибегнуть к отчаянному решению. Этот титан искусства нагромоздил Пантеон на Парфенон и создал собор св. Петра в Риме. Это великое создание зодчества заслуживало того, чтобы оставаться единственным в своем роде, как последний проблеск оригинальной архитектуры, как подпись артиста-гиганта под длинным каменным реестром, которому уже настало время подвести итоги. А что делает, по смерти Микель-Анджело, эта жалкая архитектура, пережившая сама себя в образе призрака и тени? Она берет себе за образец собор св. Петра, – и добро бы она копировала его: нет, она его пародирует. Просто досада берет. Каждый последующий век имеет свой собор св. Петра: XVII-й век – церковь Валь-де-Грас, XVIII-й – церковь св. Женевьевы. Мало того: каждая страна имеет свой собор св. Петра: и Лондон, и С-Петербург[20 - Здесь автор, очевидно, разумеет наш Казанский собор, действительно напоминающий своей архитектурой римский собор св. Петра. // Прим. перев.]; в Париже их даже целых два или три. Все это не что иное, как жалкая болтовня слабеющего искусства, впадающего в детство, прежде чем умереть.
Если от этих капитальных зданий, о которых мы упомянули выше, мы перейдем к сравнению искусства XVI и XVIII веков вообще, то мы заметим те же признаки упадка и худосочия. Начиная с Франциска II, архитектурные формы здания все более и более сглаживаются и из-за них выглядывают геометрические формы, подобно тому, как у похудевшего от болезни человека выступают наружу кости. Прекрасные линии художника уступают место холодным и бездушным линиям чертежника; здание перестает быть зданием и превращается в многогранник. А между тем архитектура выбивается из сил, чтобы скрыть эту наготу: то она перемешивает греческий фронтон с римским, то наоборот, – и все-таки мы не видим ничего иного, как жалкие копии, часто даже не выдержанные в одном стиле, Пантеона, Парфенона и римского собора св. Петра. Вот кирпичные дома Генриха IV, с выложенными из тесанного камня углами, на Королевской площади, на площади Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII – тяжелые, низкие, неуклюжие, приземистые, на которых купол сидит, точно горб. Вот Мазариниевская архитектура, жалкая итальянщина самого дурного тона. Вот дворец Людовика XIV, – длинные, построенные для царедворцев казармы, холодные, натянутые, скучные. Вот, наконец, и стиль Людовика XV с его цикорными листьями, с его вермишелью, со всеми этими бородавками и наростами, которые еще более обезображивают эту и без того уже беззубую и морщинистую старческую архитектуру. Начиная с Франциска II и до Людовика XV зло увеличивалось в геометрической прогрессии; от прежнего искусства остались только кожа и кости; оно, видимо, находится в состоянии агонии.
Что делается тем временем с печатью? А то, что все жизненные соки, покидающие зодчество, притекают к ней. По мере того, как зодчество худеет, печать растет и полнеет. Всю ту силу, которую человечество расходовало прежде на здания, оно стало расходовать теперь на книги. Уже начиная с XVI-го столетия печать, вырастая до уровня слабеющей архитектуры, вступает с нею в борьбу и, наконец, убивает ее. В XVII-м столетии она уже настолько сильна, настолько уверена в своем могуществе и своей победе, что уже чувствует себя в состоянии представить миру зрелище великой литературной эры. В XVIII-м столетии, достаточно отдохнув на эпохе Людовика XIV, она схватывает старинный меч Лютера, вооружает им Вольтера и с шумом и гамом кидается на приступ той самой старой Европы, которой она уже нанесла такой чувствительный удар по отношению к зодчеству. К концу XVIII-го столетия она успела ниспровергнуть все. В XIX столетии ей предстоит приняться за зиждительство.
А теперь мы позволим себе поставить вопрос: которое из двух искусств является в течение последних трех веков действительным выражением человеческой мысли, которое из них передает не только литературную и схоластическую сторону ее, но и ее обширное, глубокое и всестороннее движение? Которое из них постоянно, без пробелов и перерывов, доминирует род людской, которое из них постоянно идет вперед, подобно тысяченогому чудовищу? Зодчество или печать?
Печать. Не может быть сомнения в том, что зодчество умерло, умерло окончательно, что его убила печатная книга, и убила потому, что создания зодчества, будучи менее долговечными, стоят дороже. Каждый собор представляет собою капитал в целый миллиард. Пусть же представит себе теперь читатель, каких капиталов потребовалось бы для того, чтобы переписать эту архитектурную книгу, чтобы возвести снова тысячи громадных и великолепных зданий, чтобы снова возвратиться к той эпохе, когда число зданий было до того значительно, что, по словам свидетеля-очевидца, «можно было бы подумать, будто мир, встряхнувшись, сбросил с себя свою старую одежду, чтобы покрыться новой, белой одеждой церквей»[21 - Erat enim ut si mundus, ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret. (Glaber Radulphus).].
Книгу так недолго создать, она стоит так дешево и может распространиться так далеко! Ничего нет удивительного в том, что вся человеческая мысль потекла по этому стоку. Из этого, конечно, еще не следует, чтобы зодчество еще не создало здесь и там великолепного памятника, отдельного образцового произведения. И при господстве печати от времени до времени можно будет создать, например, колонну, вылитую из пушек, захваченных целой армией, подобно тому, как при господстве зодчества создавались Илиады и Романцеросы, Магабараты и Песни Нибелунгов, сложенные целым народом из собранных в кучу и слитых в одно целое отдельных рапсодий. Гениальный архитектор может народиться случайно и в ХХ-м столетии, подобно тому, как в XIII-м столетии, при полном господстве архитектуры, случайно народился великий поэт Данте. Но отныне зодчество не может уже быть преобладающим, коллективным, господствующим искусством. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества уже не будут строиться – они будут печататься.
И вообще, на будущее время, если зодчество и поднимется случайно, то оно не будет уже властелином; оно будет вынуждено подчиняться законам словесности, которой оно в прежние времена предписывало законы. Оба эти вида искусства поменяются ролями. Не подлежит сомнению, что в архитектурную эпоху поэмы, правда, малочисленные, походят на монументы. В Индии, например, поэма Виаза странна, ветвиста, непонятна, как пагода; на египетском Востоке поэзия, подобно зданиям, отличается величественностью и спокойствием линий; в древней Греции она отличается красотою и ясностью; в христианской Европе – католическою величественностью, народной наивностью, богатой и роскошной растительностью эпохи Возрождения. Библия напоминает собою пирамиды, Илиада – Парфенон, Гомер – Фидиаса. Данте в XIII-м столетии – это последняя романская церковь; Шекспир в XVI-м столетии – это последний готический храм.
Резюмируя то, что мы до сих пор говорили, по необходимости в форме несовершенной и отрывочной, мы скажем, что у рода человеческого есть два рода книг, два рода рукописей, два способа передавать свою мысль – зодчество и печать, каменная и бумажная книги. При сравнении этих двух книг, позволяющих нам заглянуть так далеко в глубь веков, нельзя не пожалеть об исчезающем величии гранитных письмен, об этих гигантских алфавитах, вылившихся в виде колоннад, порталов, обелисков, об этих созданных руками человеческими горах, которые покрывают собою весь мир и все прошлое, начиная от пирамиды и кончая колокольней, начиная Хеопсом и кончая Страсбургом. На этих каменных страницах можно перечитать все прошлое. Не мешает почаще перелистывать и перечитывать книгу, написанную зодчеством; но из этого еще не вытекает, чтобы следовало отрицать величие здания, воздвигнутого, в свою очередь, печатью.
Здание это громадно. Какой-то досужий статистик вычислил, что если бы положить один на другой все тома, вышедшие из под печатного станка, начиная с Гуттенберга, то наполнилось бы все пространство, отделяющее землю от луны. Но мы говорим здесь не о такого рода величии. Если мы пожелаем представить воображению нашему цельную картину, которая представляет собою совокупность всех произведений печати до наших дней, то не явится ли нам эта совокупность в виде громадного сооружения, опирающегося на весь мир, над которым безустанно трудится все человечество и высокая вершина которого теряется в непроницаемом тумане будущего? Это настоящий муравейник ума. Это тот улей, к которому слетаются все пылкие воображения, это – золотистые пчелы, приносящие сюда свой мед. Здание это имеет тысячи этажей. Там и сям по краям его виднеются отверстия темных пещер науки, взаимно пересекающихся во внутренности здания. По всей наружности здания искусство ослепляет глаз всевозможными арабесками, круглыми оконцами, резьбой. Здесь всякий единичный труд, как бы он ни казался своеобразным и обособленным, находится на своем месте и на виду. Здесь все гармонично. Начиная с Шекспировского собора и кончая Байроновскою мечетью, тысячи башенок пестрят это монументальное здание всемирной мысли. На самом фундаменте его написаны некоторые права человечества, не занесенные зодчеством в свои книги. Налево от входа мы видим старый барельеф из белого мрамора, Гомера; направо – многоязычная Библия поднимает семь голов своих. Далее щетинится гидра Романцеро, рядом с некоторыми другими, несколько помесными видами, как-то: Ведами и Нибелунгами. Впрочем, это громадное здание никогда не будет вполне закончено. Печать, этот громадный насос, беспрестанно выкачивающий все умственные соки общества, беспрерывно продолжает выбрасывать из своих недр новый материал для новых работ. Весь род людской стоит на лесах; всякий делается каменщиком; самый скромный из деятелей кладет свой камень или заделывает свое отверстие, или тащит свой куль штукатурки, и с каждым днем здание возвышается на новую кладку камней. Независимо от единоличных взносов каждого отдельного писателя, появляются и взносы коллективные; так, XVIII-й век дал свою «Энциклопедию», эпоха революции – своего «Монитера». Правда, все это представляет собою здание, которое громоздится и растет в бесконечных спиралях; мы встречаем и здесь смешение языков, неутомимую деятельность, непрерывный труд, усиленное содействие всего человечества, убежище, обещанное человечеству на случай нового потопа, на случай наводнения варварами. Это – вторая Вавилонская башни рода людского.
Книга шестая
I. Беспристрастный взгляд на старинное судейское сословие
В 1482 году существовал на свете очень счастливый человек, а именно кавалер Робер д’Эстетувилль, владетель Бейна, барон Иври и Сент-Андри в Марках, советник и каммергер короля и член парижского муниципального совета. Лет 17 перед тем, а именно 7-го ноября 1465 года, т. е. в самый год появления кометы[22 - Эта комета, по поводу которой папа Калликст, дядя Борджии, предписал служить молебствия, появилась вновь в 1835 г.], он получил от короля прибыльную должность парижского старшины, считавшуюся скорее почетною, чем служебною, «должность, которая, – как говорит Иоанн Леменус, – соединяет с немалою властью, по отношению к политике, немалые политические прерогативы и права». В 1482 году нечто диковинное представлял собою дворянин, грамоты которого относились к эпохе свадьбы дочери короля Людовика IX с кавалером Бурбонским и который получал должность из рук короля. В тот самый день, когда Робер д’Эстетувилль заменил Жака де-Вилье в парижском городском совете, Жан Дове заменил Эли де-Торрети в звании старшего председателя суда, Жан Жувенель-дез-Юрсен сменил Пьера де-Морвиллье в должности канцлера Франции, а Реньо де Дорман занял, вместо Пьера Пюи, место управляющего королевским двором. А между тем, сколько лиц уже перебывали в звании президента, канцлера и управляющего двором, между тем, как Робер д’Эстутевилль все еще оставался председателем парижского муниципального совета. Эта должность была отдана ему «на хранение», как говорилось в грамотах, и, надо отдать ему справедливость, он охранял ее хорошо. Он уцепился за нее, он сжился с нею, он до того отожествился с нею, что ему удалось устоять даже против той мании к переменам, которая овладела Людовиком XI во вторую половину его царствования. Король этот отличался подозрительным, хлопотливым и беспокойным характером, и он надеялся частыми переменами и смещениями поддержать неприкосновенность своей власти. Мало того, кавалеру д’Эстутевиллю удалось добиться того, что преемником его в должности уже заранее был назначен сын его, и уже целых два года имя шталмейстера Жака д’Эстутевилля значилось рядом с его именем в списке членов парижского муниципального совета. Без сомнения, редкая и великая милость! Правда и то, что Робер д’Эстутевилль был храбрый воин, что он честно сражался за короля против «лиги добра» и что он преподнес королеве, в день ее въезда в Париж в 14.. году, великолепного, сделанного из сахара, оленя. Кроме того, он пользовался расположением Тристана Пустынника, начальника королевской стражи и любимца короля. Из всего этого не трудно понять, что сир Робер вел очень приятную и веселую жизнь. Во-первых, он получал очень хорошее жалованье, к которому присоединялись еще, свешиваясь, точно крупные гроздья на виноградной лозе, доходы от гражданских и уголовных дел, подлежавших его разбирательству, не считая также доходов от пошлинных застав у Мантского и Корбейльского мостов, от соляных магазинов и от дровяных дворов. Прибавьте ко всему этому еще удовольствие – фигурировать в городских процессиях впереди всех советников, одетых в красно-каштановые мантии, в своем великолепном воинском одеянии, которое вы и поныне можете видеть изваянным на его гробнице, в Вальмонтском аббатстве, в Нормандии, и его чеканенный шишак, хранящийся в Монтлери. А чего стоило удовольствие иметь под своим начальством всю городскую и тюремную стражу города, всех служащих при тюрьмах, обоих секретарей Шатле, 16 комиссаров шестнадцати городских кварталов, главного смотрителя тюрем, четырех присяжных сержантов, 120 конных городских стражников, 120 пеших стражников, начальника ночного дозора с его помощниками и его командой? А разве пустяки – право судить и казнить, право колесовать, вешать и четвертовать, не считая менее строгих наказаний («наказаний, налагаемых первой инстанцией», как говорилось в грамотах), предоставленного ему во всем Парижском графстве, состоявшем из семи округов? Можно ли представить себе что-либо более приятное произнесения приговоров, как то делал ежедневно Робер д’Эстутевилль под широкими и низкими аркадами Шатле Филиппа-Августа, с тем, чтобы затем вечером отправляться отдыхать от трудов праведных в красивый дом в улице Галилея, в ограде Пале-Рояля, полученный им в приданое за своей женой, Амбруаз де-Лоре, между тем, как осужденный им в это же утро бедняга проводил ночь в тюремной каморке, имевшей 11 футов в длину, 7 футов в ширину и 11 футов вышины?
Но Робер д’Эстутевилль исправлял должность не только парижского судьи, но заседал и в главном королевском суде. Не было ни одной столько-нибудь высокопоставленной головы, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Не кто иной, как он, отправился в Сент-Антуанскую Бастилию, чтобы отвести оттуда на рыночную площадь графа Немурского, или на Гревскую площадь коннетабля Сен-Поля, который протестовал и барахтался, к великой радости г. д’Эстутевилля, питавшего к коннетаблю глубокую ненависть. Всего этого, конечно, более чем достаточно для того, чтобы обеспечить человеку счастливую и спокойную жизнь и чтобы заслужить почетной страницы в той самой истории парижских бургомистров, из которой мы узнаем, что у Удара-де-Вильнева был свой дом в улице Мясников, что Гильом-де-Хангаст купил целых два дома, один побольше, другой поменьше, что Гильом Тибу завещал монахиням св. Женевьевы дома свои в улице Клопен, что Гюг Обрио жил в доме под вывеской Дикобраза, и разные другие тому подобные подробности.
И, однако, несмотря на столько обстоятельств, способных обеспечить веселую и счастливую жизнь, Робер д’Эстутевилль проснулся 7-го января в самом скверном и мрачном расположении духа. Отчего это происходило – он сам не был бы в состоянии объяснить. Небо ли было слишком пасмурно? Жала ли его довольно объемистый живот пряжка его старого монлерийского пояса? Прошли ли по улице мимо его окон бесстыдники, не отнесшиеся к нему с должным почтением и горланившие, несмотря на то, что он сидел у окна, свои неприличные песни? Было ли это смутное предчувствие того, что в будущем году новый король Карл VIII сократит доходы его на целых 370 франков 16 с половиною су? Читатель волен выбрать любое из этих предположений. Что касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.
К тому же дело происходило на другой день после праздника, т. е. наступил день весьма скучный для всех, а в особенности для городских властей, которым приходилось выметать, в прямом смысле, весь сор, который, обыкновенно, покрывал парижские улицы на следующий день после праздника. К тому же в этот день у него было заседание в суде. А в то время, – как, впрочем, и теперь, – не трудно было заметить, что дни заседаний совпадают обыкновенно у судей с днем дурного расположения духа, что мудрая природа устроила, по-видимому, в тех видах, чтобы им было на ком излить свою досаду именем короля, закона и справедливости.
Заседание открылось, однако, без него. Помощники его по уголовным и гражданским делам и по частным жалобам, по обыкновению, уже приступили к делу, и, начиная с восьми часов утра, несколько десятков горожан и горожанок, скученные и спертые в одной из зал Шатлэ между толстой, дубовой загородкой и стеною, благоговейно следили за умилительным и разнообразным зрелищем того, как Флориан Барбедьенн, член королевского суда, товарищ главного судьи, творил суд и расправу, правда, кое-как и наугад.
Комната была небольшая, низкая, со сводами. В глубине ее стоял стол, с вырезанными на нем лилиями; перед ним стояло большое кресло из резного дуба, предназначенное для г. д’Эстутевилля и оказавшееся в настоящее время незанятым, а влево от него – стул для помощника судьи, Флориана Барбедьенна. Несколько ниже сидел секретарь, что-то царапавший на бумаге. В глубине комнаты, против самого стола, сидела публика; а возле двери и возле стола немало городских стражей, в своих камзолах из фиолетового камлота, с белыми крестами. Два сержанта гражданской милиции, одетые в полосатые, красные с синим куртки, стояли на часах перед низкой, запертой дверью, которая виднелась позади судейского стола. Одно единственное узкое, стрельчатое окно, пробитое в толстой стене, освещало слабым январским светом две забавные фигуры – какого-то высеченного из камня чертика, служившего подставкой лампе, и судью, сидевшего в глубине залы за столом с лилиями.
Действительно, представьте себе сидящим за судейским столом, между двумя связками бумаг, опершись на локти, с ногами, запутавшимися в шлейф длинной, темно-коричневой мантии, с головой, ушедшей в воротник из белого барашка, из-за которого выглядывали только пара густых бровей, пара красных, толстых, отвислых щек, пара моргающих глаз человека, – и вы будете иметь довольно ясное понятие о Флориане Барбедьенне, члене суда Шатлэ.
Прибавьте ко всему этому еще, что Флориан Барбедьенн был глух, что, конечно, является легким недостатком со стороны члена суда. Это, однако же, нисколько не мешало Флориану творить суд очень развязно и безапелляционно. Да, действительно, для судьи важно только то, чтобы он делал вид, будто слушает; а почтенный член суда тем лучше удовлетворял этому существенному во всяком хорошем делопроизводстве условию, что внимание его не развлекалось никаким посторонним шумом.
Впрочем, в числе присутствующих он нашел себе неумолимого контролера всех своих жестов и действий в лице нашего друга Жанна Фролло-дю-Мулен, вчерашнего шалуна-школьника, этого шалуна, которого, наверное, можно было встретить где угодно, только не на школьной скамье.
– Посмотри-ка, – говорил он потихоньку своему товарищу Робену Пусспену, хихикавшему подле него, между тем, как Жан делал различные замечания по поводу разыгравшихся перед глазами их сцен, – посмотри-ка, вон, Жанна дю-Бюиссон, красивая дочка лентяя с Нового моста! – А этот старый дурак осуждает ее! Что ж, у него нет ни глаз, ни ушей, что ли? Пятнадцать су и четыре полушки за то, что она два раза пропела на улице «Отче наш!» Строгонько! Суров закон для певца! А это кто же такой? А, Робен Шьеф-де-Вилль, кольчужных дел мастер! А ведь он только что принят в цех! Ну, что ж, пусть он хоть в тюрьме вспрыснет свое принятие в цех! Гляди, гляди! Два дворянина среди этих мазуриков! Эгле-де-Суэн, Гютен-де-Майльи! Два рыцаря, ей Богу! А-а! они играли в кости! А отчего же нет здесь нашего ректора, этого отъявленного игрока? Сто парижских ливров штрафа в королевскую казну! Черт его побери, этого Барбедьенна, как он лупит! Да, впрочем, ведь он глух и сам не слышит ударов! Однако пусть я буду моим братом архидиаконом, если это помешает мне играть, – играть и днем, и ночью, и жить, и умереть за игрою, проиграть сначала мою рубашку, а потом и мою душу! – Пресвятая Дева, сколько барышень! Ну-ка, ну-ка, выступайте, голубушки! Амбруаза Лекюйер, Изабелла Ла-Пайнетт, Герарда Жиронен! Все мои знакомые, ей Богу! Штраф, штраф! Поделом! Будет вам носить позолоченные кушаки! Десять парижских су! Ну, что взяли, кокетки? – У-у! старая судейская рожа! У-у! олух Флориан! У-у! болван Барбедьенн! Как он расселся у стола! Он жрет и истца, он жрет и ответчика, он жрет все, что попадется ему под руку! Он жует, давится, переполняет свое брюхо! Штрафы, пошлины, судебные издержки, пени, колодки, тюрьма, – все это для него точно рождественские пряники или ивановский марципан! Ну, вот! Еще женщина! Тибо ла-Тибод, ни более, ни менее! И ее привлекли в суд за то, что она осмелилась выйти из улицы Глатиньи! А это что за парень? Э! да ведь это Жифруа Мабонн, стрелок из лука! А-а! Он богохульствовал! К штрафу Тибода! К штрафу Жифруа! К штрафу их обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал оба эти дела. Держу пари десять против одного, что он приговорит к наказанию девушку за богохульство и жандарма за ночную прогулку. Гляди-ка, гляди-ка, Робен! Кого это они собираются ввести! Эк, сколько нагнали сержантов! Клянусь Юпитером, тут вся стая гончих. Должно быть, поймали красного зверя! Кабана! А и то, кабан, Робен, да еще какой матерый! Ах, черт возьми! да ведь это наш вчерашний герой, наш шутовской папа, наш звонарь, наш горбун, наш кривой, наш гримасник! Это Квазимодо!
И действительно, это был он. Это был Квазимодо, связанный, скрученный, под сильной охраной. Вместе с окружавшими его стражниками вошел в залу суда сам начальник ночного дозора, с вышитым на груди мундира гербом Франции, а на спине – гербом города Парижа. Впрочем, во всей личности Квазимодо, за исключением разве уродства его, не было ничего такого, что могло бы объяснить употребление по отношению к нему таких чрезвычайных мер охраны. Он был мрачен, молчалив и спокоен, и только по временам единственный глаз его бросал сердитый и угрюмый взгляд на связывавшие его оковы. Тем же взглядом он взглянул и вокруг себя, но, вместе с тем, взгляд этот имел такое угрюмое и сонное выражение, что женщины показывали друг другу пальцами на Квазимодо только для того, чтобы посмеяться над его уродством.
Тем временем судья Флориан внимательно пересмотрел поданное ему секретарем дело о Квазимодо и затем на минуту как будто задумался. Благодаря этой предосторожности, к которой он всегда прибегал прежде, чем приступить к допросу, ему всегда были известны заранее имена и звания подсудимых и то, в чем они обвиняются, что давало ему возможность давать заранее приготовленные реплики на ответы обвиняемых и выпутываться из всех трудностей допроса, не обнаруживая слишком ясно глухоты своей. Лежавшее перед ним дело было для него то же, чем бывает собака-вожак для слепца. Если порой и случалось, что глухота его обнаруживалась каким-нибудь несообразным вопросом или неуместным замечанием, то одни видели в этом доказательство его глубокомыслия, а другие – его глупости; но ни в том, ни в другом случае чести суда не наносился ни малейший ущерб, ибо понятно, что для судьи лучше быть глупым или глубокомысленным, чем глухим. Итак, он тщательно заботился о том, чтобы скрывать свою глухоту от всех, и это ему обыкновенно так хорошо удавалось, что он, наконец, стал себя обманывать на этот счет, что, впрочем, даже вовсе и не так трудно, как обыкновенно полагают, известно, что все горбатые
имеют привычку ходить с высоко поднятой кверху головою, все косноязычные любят ораторствовать, все глухие говорят очень тихо. Что касается его, то он считал себя разве только немного тугим на ухо. Это была единственная уступка, которую он делал по этому пункту общественному мнению в минуты откровенности и чистосердечности.
Итак, усвоив себе, как следует, дело Квазимодо, он откинул голову назад, прищурил глаза, для большей величественности и беспристрастия, так что он сделался одновременно не только глухим, но и слепым, т. е. представлял своей персоной два самых существенных условия для образцового судьи.
Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:
– Ваше имя?
Но тут случилось нечто непредвиденное законодателем, именно, что глухой станет допрашивать глухого.
Квазимодо, которого ничто не предупредило, что к нему обращаются с вопросом, продолжал пристально смотреть на судью и ничего не ответил. Глухой судья, которому ничто не указывало на глухоту обвиняемого, полагая, что тот уже ответил, как обыкновенно делают все подсудимые, продолжал с своим механическим и глупым апломбом:
– Хорошо. Сколько вам лет?
Квазимодо, понятно, не ответил и на этот вопрос. Судья, уверенный в том, что ответ последовал, продолжал:
– Ваше звание?
Все то же молчание. Слушатели начали переглядываться и перешептываться.
– Довольно, – сказал невозмутимый судья, предположив, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. – Вы обвиняетесь в следующем: во 1-х, в нарушении общественной тишины ночью; во 2-х, в соединенных с соблазном поступках относительно находящейся не в здравом уме женщины, in praejudicium meretricis; в 3-х, в оказании открытого сопротивления страже его королевского величества. Объяснитесь по всем этим обвинениям. Г. секретарь, записали ли вы то, что показал до сих пор подсудимый?