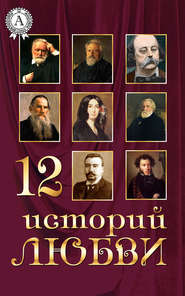скачать книгу бесплатно
– Видите ли, братец, я бы не стал тревожить вас из-за пустяков. Дело вовсе не в том, чтобы кутить в харчевнях на ваши деньги или чтобы кататься верхом по парижским улицам на лошади, покрытой дорогим вальтрапом, в сопровождении лакея. Нет, братец, деньги мне нужны на доброе дело.
– На какое это доброе дело? – спросил Клод, слегка удивленный.
– Двое из моих товарищей собираются купить в складчину белье и платьице для ребенка одной бедной вдовы тряпичницы. Это будет стоить три флорина. Они дают на то каждый по одному флорину, и мне…
– А как зовут этих двух товарищей твоих?
– Пьер Мясник и Баптист Птицеед.
– Гм! – проговорил архидиакон, – вот так два имечка, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю.
Тут Жан сообразил, но несколько поздно, что он придумал очень неудачные имена для своих друзей.
– И к тому же, – продолжал рассудительный Клод, – к чему это простой тряпичнице детского белья на целых три флорина? Давно ли тряпичницы стали так наряжать своих детей?
– Ну, если так, – воскликнул Жан, у которого лопнуло терпение, – то я вам прямо скажу, что деньги эти мне нужны для того, чтобы пойти сегодня вечером с Изабеллой Ла-Тьерри на гулянье.
– Порочный юноша! – воскликнул архидиакон.
– По-гречески порок – «????????»… – спокойно ответил Жан.
Эта цитата, которую молодой сорванец, быть может, нарочно заимствовал со стены братниной комнаты, произвела на Клода странное впечатление. Он закусил губы, покраснел и притих.
– Уходи… – наконец, сказал он Жану. – Я ожидаю гостя.
– Братец, – проговорил Жан, делая одно последнее усилие, – дайте мне хоть немного мелочи. Я сегодня еще ничего не ел.
– Ты бы лучше позанялся декреталиями Грациана, – сказал Клод.
– Я потерял свои тетради.
– Ну, так латинскою словесностью.
– У меня украли моего Горация.
– Ну, так Аристотелем.
– Братец, а ведь кто-то из отцов церкви говорит, что заблуждения еретиков проистекали во все времена из дебрей Аристотелевой метафизики. Долой Аристотеля! Я не желаю, чтобы его лжеучения колебали мою веру.
– Молодой человек, – заметил архидиакон, – во время последнего въезда короля в числе его свиты был дворянин Филипп де-Комин, у которого на чепраке, покрывавшем его лошадь, был вышит следующий девиз: – «Кто не работает, недостоин есть.» – Советую вам зарубить себе это на носу.
Жан стоял молча, приложив палец к щеке, устремив глаза в землю, и с сердитым видом. Вдруг он обернулся к Клоду с проворством трясогузки.
– Итак, братец, вы отказываете мне даже в нескольких жалких су, чтобы купить себе хлеба у булочника?
– Кто не работает, недостоин есть.
При этом ответе неумолимого архидиакона, Жан закрыл лицо обеими руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния:
– ???????????!
– Это что такое означает? – спросил Клод, удивленный этой выходкой.
– А разве вы этого не знаете? – ответил Жан, поднимая на Клода дерзкие глаза свои, которые он только что постарался нацарапать своими ногтями, чтобы придать им красноты и заставить думать, что он плакал. – Ведь это по-гречески! Это анапест Эсхила, выражающий сильнейшую степень горя.
И при этих словах он разразился таким раскатистым смехом, что даже серьезный архидиакон не мог не улыбнуться. Действительно, он сам был виноват. К чему он так избаловал этого мальчика?
– Ах, милый братец, – продолжал Жан, ободренный этой улыбкой, – посмотрите на мои сапоги: они совсем расползаются. Что может быть трагичнее сапог, которые просят есть!
Но архидиакон снова сделался серьезен по-прежнему.
– Я пришлю тебе новые сапоги, – сказал он, – но денег на руки не дам.
– Ну, хоть сколько-нибудь, братец! – продолжал умолять его Жан. – Я обещаюсь вам вызубрить наизусть всего Грациана, я стану усердно молиться Богу, я сделаюсь настоящим Пифагором по части учености и добродетели! Но только, ради Бога, дайте мне немного денег. Неужели вы не видите, что голод уже разинул свою ужасную пасть, более черную и более глубокую, чем преисподняя, и более вонючую, чем нос монаха?
Клод только покачал головой и снова заговорил:
– Кто не работает…
Но Жан не дал ему докончить.
– Ну так черт побери! – воскликнул он. – Да здравствует веселие! Я пойду шляться по харчевням, буду драться, бить посуду, отправлюсь к девушкам!
И с этими словами он подбросил шапку до потолка и прищелкнул пальцами, точно кастаньетами.
– Жан, – проговорил архидиакон, сердито смотря на него, – у тебя нет души!
– В таком случае, – заметил Жан, – у меня, если верить Эпикуру, недостает чего то, сделанного неизвестно из чего и не имеющего имени.
– Жан, тебе нужно серьезно подумать о том, чтобы исправиться.
– Что же это такое! – воскликнул школяр, переводя взоры свои от Клода к перегонным кубам, – здесь, значит, все рогато, – и посуда, и мысли!
– Жан, ты стоишь на очень наклонной плоскости. Знаешь ли, куда ты идешь?
– В кабак, – ответил Жан.
– А кабак ведет к позорному столбу, – заметили Клод.
– Ну, что же! И позорный столб – такой же столб, как и всякий другой, и, быть может, с его помощью Диогену и удалось бы, наконец, найти человека.
– А позорный столб ведет к виселице.
– Виселица – это рычаг, на одном конце которого висит человек, а на другом – весь мир. Роль человека в этом случае вовсе не так достойна сожаления.
– А виселица ведет в ад!
– Ну, что ж! Там, по крайней мере, достаточно тепло.
– Жан, Жан, говорю тебе, ты дурно кончишь.
– А за то я хорошо начал!
В это время на лестнице раздался стук шагов.
– Тссс! проговорил Клод, прикладывая палец к губам, – это идет Жак. Послушай, Жан, прибавил он вполголоса, – не смей никогда и никому говорить о том, что ты здесь увидишь и услышишь. Спрячься поскорее в эту печку и не шевелись.
Школяр забился в печку. Туг ему пришла на ум блестящая мысль.
– А вот что, братец: я буду молчать, но только вы должны дать мне за это один флорин.
– Хорошо, хорошо! Я обещаю тебе это, только молчи!
– Но, чур, деньги вперед!
– Ну, на, бери! – гневно воскликнул архидиакон, бросая ему весь свой кошелек.
Жан только что успел забраться в печку, как распахнулась дверь.
V. Снова оба человека, одетые в черном
В комнату вошел человек, одетый в черное платье, с мрачным выражением лица. На первый взгляд более всего поразили нашего приятеля Жана (который, как читатель легко может представить себе, устроился в своей печурке таким образом, чтобы ему можно было удобно видеть и слышать все, что будет происходить в комнате) печальное выражение лица и простота одежды новоприбывшего. В выражении лица его было, правда, нечто слащавое, но это была слащавость, свойственная лицам судей или кошек. Он был совершенно сед; судя по морщинистому лицу его ему можно было дать лет шестьдесят; он моргал веками и густыми седыми бровями, губы его отвисли, руки его были необыкновенно крупны. Жак сразу решил, что это, должно быть, или врач, или судья, и, заметив к тому же, что у него нос составлял совершенно прямую линию со лбом, – несомненный признак глупости, по его мнению, – он забился в угол своей печурки, очень недовольный тем, что ему придется провести Бог весть сколько времени в таком неудобном положении, и притом в таком неприятном обществе.
Архидиакон даже не потрудился привстать для того чтобы приветствовать новоприбывшего. Он только пригласил его знаком сесть на табурет, стоящий недалеко от двери, и после некоторого молчания, во время которого он, по-видимому, продолжал прежние свои размышления, он сказал ему несколько покровительственным тоном!
– Здравствуйте, господин Яков.
– Здравствуйте, г. архидиакон, – ответил гость.
В том выражении, которым произнесены были эти слова: «господин Яков» и «г. архидиакон», не трудно было подметить обращение учителя к ученику, и обратно.
– Ну, что, – продолжал Клод после некоторого молчания, которое гость остерегался нарушить, – успешно ли подвигается дело?
– Увы! – ответил тот с печальной улыбкой, – я все дую и дую; пепла сколько угодно, но ни крупинки золота.
– Я говорю вовсе не об этом, г. Жак Шармолю, – сказал Клод, сделав нетерпеливый жест, – а о том процессе, возбужденном вами против чародея. Ведь вы, кажется, называли этого человека Марком Сенэмом, и он состоит ключником в счетной камере, не так ли? Сознается ли он в чародействе? Повел ли к чему-нибудь допрос под пристрастием?
– К сожалению, нет, – ответил Жак, с прежней грустной улыбкой. – Мы не дождались этого утешения. Человек этот – настоящий кремень. Его хоть в кипятке вари, а он все-таки ничего не скажет. У него уже выворочены все члены. Уж чего только мы не проделывали с ним – ничего не берет. Это просто какой- то ужасный человек. Я просто из сил выбился с ним.
– И вы не нашли в его доме ничего новенького?
– Как же! – ответил Жак, роясь в своей сумке, – как же! мы нашли там вот этот пергамент. Он исписан какими-то словами, которых мы не понимаем. А между тем г. следственный судья, Филипп Лелиё, знаком несколько с еврейским языком, которому он научился во время производства дела о евреях улицы Кантерстен, в Брюсселе.
И с этими словами Жак развернул какой-то пергамент.
– Покажите-ка! – проговорил архидиакон, и, бросив взгляд на рукопись, он воскликнул:
– Да это настоящее чернокнижие, господин Жак! «Emen-hetan» – это крик нетопырей, летящих на шабаш ведьм. «Per ipsum, et cum ipso, et in ipso», – это формула для запирания дьявола в аду, – «Hax, pax, max» – это медицинские термины, это заговор против укушения бешеными собаками. Господин Жак, говорю вам, как королевскому прокурору по церковным делам, – это превредная рукопись.
Значит, мы снова подвергнем этого человека пытке. А вот что мы еще нашли у Марка Сенэна, – прибавил Жак, снова порывшись в своей сумке.
Это оказался сосуд в роде тех, которые стояли на печке Клода.
– А! – проговорил архидиакон? – алхимический тигель!
– Я сознаюсь вам, – продолжал Жак, принужденно и робко улыбаясь? – что я делал уже с ним опыт, но он удался не лучше, чем с моими сосудами.
Архидиакон принялся рассматривать сосуд. – Что это такое он выгравировал на своем тигеле? «Ох, ох». Да это просто формула, которую прогоняют блох! Этот Марк Сенэн просто круглый невежда! Надеюсь, что с помощью таких слов вам не удастся добыть золото. Положите его просто под ваше изголовье, когда ляжете спать, – вот и все!
Кстати, по поводу ошибок! – сказал королевский прокурор. – Я только что рассматривал внизу большие церковные двери, прежде чем подняться наверх. Действительно ли вы уверены в том, чтобы та из семи нагих коленопреклоненных у ног Богоматери фигур, у которой к пяткам прикреплены крылья, изображала собою Меркурия?
– Да, – ответил Клод. – Так, по крайней мере, пишет итальянский ученый Августин Нифо, тот самый, который пользовался услугами бородатого демона, начавшего его всевозможным вещам. Впрочем, когда мы сойдем вниз, я объясню вам все это, имея самый текст перед глазами.
– Благодарю вас, – сказал Шармолю, низко кланяясь. – Кстати, я совсем было забыл спросит вас: когда вам угодно, чтобы я велел взять под стражу эту маленькую колдунью?
– Какую колдунью?
– Да, знаете, ту молодую цыганку, которая ежедневно приходит плясать перед церковною папертью, несмотря на запрещение консисторского судьи. У нее еще есть какая-то коза с золотыми рогами, в которую, очевидно, поселился нечистый дух, которая умеет читать, писать, считать, не хуже Пикатрикса, и одного существования которого было бы достаточно для того, чтобы перевешать всех цыганок. Дело уже на мази, и мы бы живехонько порешили. А хорошенькая девчонка эта плясунья, нечего сказать!» Что за великолепные черные глаза! Точно два египетских карбункула! Так когда же мы примемся за нее?
– Я вам скажу это в свое время, – проговорил архидиакон еле слышным голосом, побледнев как полотно; и затем он, сделав над собой усилие, прибавил: – а пока займитесь Марком Сенэном.
– Насчет этого не беспокойтесь! – произнес Шармолю, улыбаясь. – Вернувшись домой, я сейчас же велю приготовить дыбу. Но только, скажу вам, это черт, а не человек. Он в состоянии довести до изнеможения самого Пьера Тортерю, который, однако, не из слабого десятка. Нужно будет допросить его под горизонтальным воротом. Против этого уж никто не устоит. Попробуем это.
Клод казался погруженным в какие-то мрачные мысли. Наконец, он обратился к Шармолю:
– Пьера… то есть, я хотел сказать, господин Жак… займитесь-ка Марком Сенэном.
– Да, да, господин Клод. Бедняга! Не мало-таки ему придется вынести! Ну, что делать! Сам виноват! Вольно же ему было посещать шабаш ведьм! Ключнику счетной камеры следовало бы знать известное изречение Карла Великого! «Нетопырь к добру не поведет». Что касается этой девчонки – Смелярда, что ли, они ее называют, – то я буду ожидать ваших приказаний. Кстати! Проходя в большие двери, вы мне, пожалуйста, объясните также, кстати, что означает сделанный барельефом садовник, который изображен у самого входа в церковь. Не Сеятель ли это? Г. Клод, о чем это вы задумались?
Действительно, Клод, погруженный в свои мысли, не слушал его. Шармолю, проследив направления его взора, увидел, что он машинально уставил глаза на большую паутину, протянутую возле оконца. В это время легкомысленная муха, желая вылететь на мартовское солнце, ринулась в самую паутину и запуталась в ней. Почувствовав сотрясение своей сети, громадный паук быстро выскочил из самого отдаленного угла ее, стремительно набросился на муху, которую он перегнул пополам своими передними лапами, и вонзил ей в голову свой безобразный хобот.
– Бедная муха, – проговорил королевский прокурор при консисторском суде и протянул было руку, чтобы спасти ее.
Но архидиакон, как бы внезапно пробужденный от сна, судорожным движением схватил его за руку и воскликнул:
– Господин Жак, пусть свершится веление судьбы!
Прокурор обернулся с испуганным видом; ему показалось, будто кто-то железными клещами впился в его руку. Взор священника был неподвижен, пристален, блестящ, и он не отводил глаз от маленькой, но ужасной группы, состоявшей из мухи и паука.
– Да, да… – проговорил Клод глухим голосом, – это символ всего! Вот она только что родилась, она летает, она весела, она ищет весны, воздуха, свободы! Да, и стоит ей только попасть к этому проклятому оконцу, и невесть откуда выскакивает паук, этот безобразный паук! Бедная плясунья! Бедная муха! – такова твоя судьба! Оставьте ее, Жак, это – судьба! – Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время, Клод, ты и муха! Ты летел к науке, к свету, к солнцу, ты только и думал о том, как бы выбраться на вольный воздух, к свету вечной истины; но, бросившись стремглав к тому светящемуся окну, которое выходит на другой мир, на мир света, знания и науки, ты, слепая муха, безумный ученый, не заметил этой тонкой паутины, протянутой судьбой между тобою и светом, ты бросился в нее, очертя голову, жалкий безумец, и теперь ты бьешься в ней с пробитой головою и с оборванными крыльями, стараясь вырваться из железных лап судьбы. – Оставьте паука докончить свое дело, господин Жак!
– Уверяю вас, – сказал Шармолю, который глядел на него, ничего не понимая; – что я не дотронусь до него; только, ради Бога, отпустите мою руку. Вы впились в нее, точно клещами.
Но архидиакон не слушал его.
– О, безумец! – продолжал он, не спуская глаз с окошка. – И если бы даже ты успел прорвать ее, эту ужасную паутину, твоими мушиными крыльями, то неужели же ты думаешь, что успел бы выбраться к свету? Увы! Дальше ты натолкнулся бы на стекло, на это прозрачное препятствие, на эту хрустальную стену, более твердую, чем медь, отделяющую все философские системы от истины. Каким образом ты успел бы пробиться сквозь нее? О, суета науки! Сколько ученых мужей прилетают издалека, чтобы разбить себе об нее лоб! И сколько различных научных систем беспорядочно жужжат и бьются об это вечное стекло!
Он замолчал. Эти последние сравнения, которые незаметно привели его от мысли о самом себе к мысли о науке, по-видимому, успокоили его; а Жак Шармолю заставил его окончательно возвратиться в область действительности, обратившись к нему с следующим вопросом: