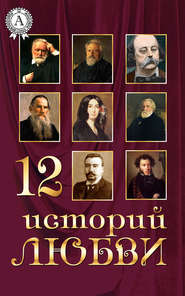скачать книгу бесплатно
– Ну, что же, г. Клод, когда же вы, наконец, поможете мне добывать золото? Мне ужасно хотелось бы добиться каких-нибудь результатов.
Архидиакон, с горькой усмешкой, пожал плечами.
– Господин Жак, – сказал он, – прочтите сочинение Михаила Пселла «Диалог о силах и о деятельности дьяволов», и вы увидите, что то, что мы делаем, – вещь далеко не невинная.
– Говорите, пожалуйста, потише, г. Клод, – проговорил Шармолю. – Мне самому так казалось. Но приходится же заниматься немножко алхимией, когда занимаешь скромную должность королевского прокурора по церковным делам и получаешь жалованья всего 30 турских экю в год. Но только, ради Бога, будемте говорить потише.
В это время до слуха Шармолю дошли из-под печки звуки, сильно напоминавшие собою щелканье зубами и жевание.
– Это что такое? – с беспокойством спросил он.
Дело в том, что Жан, которому очень надоело сидеть в самой неловкой позе в своем убежище, успел отыскать там старую корку хлеба и кусок заплесневевшего сыра, а так как у него с самого утра не было во рту ни маковой росинки, то он и принялся, долго не думая, закусывать тем, что Бог ему послал; а так как он был очень голоден, то он ел с жадностью, не стараясь заглушить шум, производимый зубами его при разгрызывании сухой корки хлеба, что и не замедлило обратить на себя внимание и встревожить прокурора.
– А это, должно быть, кот мой, – с живостью проговорил Клод, – который лакомится мышью.
Объяснение это вполне удовлетворило господина Шармолю.
– Действительно, – ответил он, почтительно улыбаясь: – у всех великих мыслителей бывали свои домашние животные. Вы знаете, что говорит Сервий, – «Всякое место должно иметь своего домового».
Однако, Клод, опасавшийся какой-нибудь новой выходки со стороны Жана, напомнил достойному ученику своему, что они собирались было еще вместе изучить некоторые изображения на главных дверях храма, и оба они вышли из комнаты, к великой радости Жана, который серьезно начинал опасаться, как бы на колене его не отпечатлелся его подбородок.
VI. О том впечатлении, которое могут произвести семь крепких слов на чистом воздухе
– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Жан, вылезая из-под печки. – Убрались, наконец, оба эти филина! Ну их совсем! Хакс, пакс, макс! Блохи! Бешеные собаки! Черти!.. О чем только они тут не наболтали! У меня звенит в ушах, точно от трезвона. И ко всему этому еще заплесневевший сыр! Бррр! Ну, посмотрим, что заключает в себе кошель нашего братца, и превратим все эти монеты в бутылки!
Он с нежностью и с восторгом заглянул в столь кстати попавшую в его руки сумку, поправил свой туалет, смахнул пыль со своих ботинок, вытер свои рукавчики, выпачканные сажей, засвистал, повернулся на каблуках, оглянулся, нельзя ли еще чем воспользоваться в кабинете его брата, подобрал на печурке кое-какие разноцветные стеклышки, весьма основательно сообразив, что их можно будет подарить, за неимением драгоценных камней, Изабелле Ла-Тьерри, наконец, отворил дверь, которую брат его не запер за собою в виде одолжения и которую он, в свою очередь, не запер, чтобы сделать своему братцу что-нибудь неприятное, и спустился с винтообразной лестницы, припрыгивая, точно птичка. На темной лестнице он толкнул что-то, и это что-то зарычало и посторонилось. Он предположил, что это непременно был Квазимодо, и эта мысль показалась ему до того забавною, что он громко расхохотался и спустился с остальных ступенек, держась за бока от смеха. Он продолжал смеяться даже и тогда, когда вышел уже на площадь.
Ступив на мостовую, он топнул в нее ногою и воскликнул:
– А, вот и ты, хорошая и милая парижская мостовая! Эта проклятая лестница могла бы заставить запыхаться даже ангелов Иакова! И стоило мне забираться в этот каменный бурав, продырявливающий небо, для того только, чтобы съесть заплесневевшего сыра и посмотреть сквозь окошечко на парижские колокольни!
Пройдя несколько шагов, он заметил обоих нетопырей, т. е. старшего братца своего и Жака Шармолю, внимательно рассматривавшего резьбу на главной двери. Он приблизился к ним на цыпочках и услышал, как архидиакон потихоньку говорил Жаку: «Этого Иова велел выгравировать на синем камне, позолоченном по краям, парижский епископ Гильом. Иов изображает собою философский камень, который должен быть испытан и высечен, чтобы принять более совершенную форму, как говорит Раймонд Люлли: «При сохранении специфической формы спасается душа».
– А для меня это все равно, – проговорил про себя Жан, – кошелек то ведь у меня.
В это самое время он услышал громкий и звучный голос, который воскликнул позади него:
– Ах, сто тысяч чертей! Ах, исчадие Вельзевула! Ах, чтоб им пусто было! и т. д., и т. д.
– Ну, это не может быть не кто иной, как мой друг, капитан Феб, – громко проговорил Жан.
Имя Феба достигло до слуха архидиакона в то самое время, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, прячущего хвост свой в ванне, из которой выходит дым и высовывается голова короля. Клод вздрогнул, внезапно замолчал к великому удивлению Шармолю, обернулся и увидел своего брата Жана, разговаривавшего с каким-то высоким офицером у дверей дома госпожи Гонделорье.
Действительно, это был капитан Феб де-Шатопер. Прислонившись к углу дома своей невесты, он продолжал сыпать крепкими словами:
– А взаправду, капитан Феб, – проговорил Жан, беря его за руку, – вы замечательно хорошо ругаетесь.
– Еще бы, черт побери! – воскликнул капитан.
– Именно, черт побери! – поддакнул школяр. – Но скажите мне, пожалуйста, любезный капитан, что вызвало с вашей стороны такой наплыв милых словечек?
– Извините, любезный товарищ мой, Жан, – ответил капитан, пожимая его руку, – но дело в том, что лошадь, пущенную в карьер, не так-то легко остановить; а я только что пустил язык свой галопом. Я только что от этих дур, – продолжал он, мотнув головою кверху, – и каждый раз, когда я выхожу от них, у меня в горле накопляется столько крепких слов, что мне нужно поскорее выплюнуть их, чтобы не задохнуться.
– Не пойти ли нам выпить чего-нибудь? – спросил Жан.
– Я бы сделал это с большим удовольствием, – ответил капитан, которого это предложение окончательно успокоило, – но у меня нет денег.
– Это ничего: у меня есть деньги.
– Неужели? Покажите-ка!
Жан с величавой простотой раскрыл перед капитаном свой кошелек. Тем временем архидиакон, покинув удивленного Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах от них, наблюдая за ними; они же не обратили на него ни малейшего внимания, – до того они оба были поглощены рассматриванием кошелька.
– Что это означает, Жан! – воскликнул Феб. – Кошелек, полный денег, в вашем кармане? Это все равно, что луна в ведре с водою: ее видишь в нем, но ее там нет, это только отражение ее. Держу пари, что в вашем кошельке не монеты, а только камешки!
– Да, вы правы, холодно ответил Жан: – вот какие камешки я ношу в своем кармане! – И, не прибавляя ни слова, он высыпал все содержимое кошелька на ближайшую тумбу с гордым видом римлянина, спасающего отечество.
– Действительно, – пробормотал Феб, – деньги, настоящие деньги, и мелкие, и крупные! Это просто поразительно!
Жан продолжал хранить величественное спокойствие. Несколько монет покатились с тумбы в грязь; капитан, в своем восторге, нагнулся было, чтобы поднять их, но Жан удержал его словами:
– Как вам не стыдно, капитан Феб де-Шетопер? Феб сосчитал деньги и, торжественно обратившись к Жану, сказал:
– А знаете ли, Жан, что здесь целых 23 парижских су! Кого это вы обобрали нынче ночью в улице Головорезов?
Жан откинул назад свою белокурую голову и произнес, презрительно прищурив глаза:
– А для чего ж судьба дает человеку брата-архидиакона, и к тому же глупого?
– Ах, черт побери! – воскликнул Феб, – какой достойный человек!
– Ну, так идемте же выпить, – сказал Жан.
– Куда же мы пойдем? – спросил Феб. – К «Яблоку Евы»?
– Нет, капитан. Пойдемте к «Древней Науке». Я предпочитаю этот кабак.
– Ну его к черту, Жан! В «Яблоке Евы» вино лучше. И к тому же там возле самой двери растет на солнце виноградная лоза, которая веселит мне взор, когда я пью.
– Хорошо, пойдем к «Еве» и к ее яблоку, – согласился Жан и, взяв Феба под руку, продолжал:
– А кстати, любезный капитан, вы только что упомянули об улице Головорезов. Это вы неудачно выразились. Теперь уже так не выражаются: теперь говорят просто улица Разбойников.
– И оба приятеля направились к «Яблоку Евы». Излишне прибавлять, что предварительно они потрудились подобрать деньги и что архидиакон издали последовал за ними.
– Он шел мрачный и беспокойный. Не тот ли самый это Феб, проклятое имя которого, после недавнего свидания его с Гренгуаром, не выходило у него из головы? Он не знал этого наверное, но во всяком случае он знал, что это был Феб, и этого магического слова достаточно было для того, чтобы заставить архидиакона красться неслышными шагами за обоими беззаботными приятелями, прислушиваться к их словам и с тревожным вниманием следить за всеми их жестами. Впрочем, подслушать их разговор не составляло особого труда, так как они говорили очень громко, нимало не стесняясь и нисколько не заботясь о том, что их разговор могут услышать все прохожие. Они говорили о женщинах, о дуэлях, о вине и о разных других глупостях.
На одном перекрестке улиц до слуха их долетели из соседнего переулка звуки тамбурина, и Клод услышал, как офицер сказал своему товарищу:
– Ах, черт побери! Пойдем скорее!
– Зачем же это, капитан Феб?
– Я боюсь, как бы меня не увидела цыганка.
– Какая цыганка?
– Да та молоденькая цыганка с козой.
– Эсмеральда?
– Она самая, Жан. Я все позабываю ее мудреное имя. Идем скорей, а то она узнает меня, а я вовсе не желаю, чтоб она заговорила со мною на улице.
– А разве вы знакомы с нею, капитан Феб?
Тут архидиакон увидел, что Феб захихикал, нагнулся к уху Жана и сказал ему шепотом несколько слов. Затем он расхохотался и с торжествующим видом мотнул головой.
– Неужели? – спросил Жан.
– Клянусь честью! – отвечал Феб.
– Сегодня вечером?
– Да, да, сегодня вечером.
– Но уверены ли вы в том, что она придет?
– Да что вы, с ума сошли, что ли, Жан? Разве можно сомневаться в подобных вещах?
– Ну, так я вам скажу, капитан Феб, что вы счастливчик!
Архидиакон слышал весь этот диалог. Зубы его стучали, дрожь, заметная для глаза, пробежала по всему его телу. Он остановился на минуту, прислонился к фонарному столбу, точно человек, у которого закружилась голова, и затем снова пошел вслед за обоими приятелями.
Но в ту минуту, когда он нагнал их, они уже переменили тему разговора, и он услышал, как они распевали во всю глотку какую-то веселую, но не особенно приличную песенку.
VII. Бука
Известный в то время кабачок «Яблоко Евы» находился в университетском квартале, на углу улиц Рондель и Батонье. Он занимал залу в нижнем этаже, довольно обширную, но очень низкую, со сводом, средняя пята которого опиралась на высокий, деревянный, выкрашенный желтой краской, свод. Она была вся уставлена столами и стены были увешаны блестящими, оловянными жбанами; большое окно выходило на улицу, а возле дверей росла виноградная лоза. Комната была переполнена посетителями, в числе которых можно было заметить немало и женщин легкого поведения. Над входной дверью красовалась, скрипевшая на крюках, вывеска, на которой изображены были какая-то женщина и яблоко. Вывеска эта вся заржавела и ходуном ходила при малейшем дуновении ветра, как бы заманивая к себе посетителей.
Уже вечерело, а переулок не был освещен. Поэтому кабачок со своими огнями светился издали, точно кузница во тьме ночной. Слышен был звон стаканов, гул попойки; сквозь разбитые окна до слуха прохожего долетали брань и крупные слова. Из-за запотелых стекол видны были сотни самых разнообразных лиц, и от времени до времени раздавался раскатистый смех. Прохожие, спешившие по своим делам, проходили мимо этого шумного окна, не заглядывая в него. Лишь по временам какой-нибудь мальчишка в лохмотьях вскарабкивался на фундамент дома и выкрикивал звонким голосом:
– Эй вы, пьяницы-бражники!
Какой-то человек прохаживался взад и вперед мимо шумной харчевни, постоянно заглядывая и не удаляясь от нее дальше, чем часовой от своей будки. Он был окутан в плащ, в который он прятал лицо свое; он только что купил этот плащ у старьевщика, открывшего свою лавочку возле самого кабачка, быть может, для того, чтобы защитить себя от холода, а, быть может, и для того, чтобы скрыть свой костюм. По временам он останавливался перед окном со свинцовой рамой, прислушивался, всматривался, топал ногами.
Наконец, дверь кабака отворилась. По-видимому, он этого то и ждал. В ней показались два бражника; сноп света, вырвавшийся из полуотворенной двери, осветил их красные и веселые физиономии. Человек, укутанный в плащ, перешел на другую сторону улицы и стал наблюдать оттуда.
– Сто тысяч чертей! – воскликнул один из бражников, – сейчас пробьет семь часов! Пора отправляться на свидание!
– Уверяю вас, – проговорил его товарищ заплетающимся языком: – что я не живу в улице сквернословия. Я живу в улице Мягкого Хлеба, по соседству с Иоанновской церковью, и вы более рогаты, чем единорог, если станете утверждать противное. Всякому известно, что тот, кто раз ездил верхом на медведе, ничего не боится. А вы… вы большой лакомка!
– Друг мой, Жан, – проговорил первый, – вы совершенно пьяны!
– Говорите, что вам угодно, Феб, – ответил второй бражник, покачнувшись, – а, тем не менее, доказано, что у Платона был профиль лица, напоминающий профиль охотничьей собаки.
Читатель, без сомнения, узнал уже обоих наших приятелей, – капитана и школяра. По-видимому, человек, следивший за ними с другой стороны улицы, также узнал их, ибо он медленными шагами следовал за обоими приятелями, из которых один выписывал ногами разные «мыслете», между тем, как капитан, более привыкший к попойкам, шел довольно твердым и верным шагом. Внимательно прислушиваясь к их разговору, укутанный в плащ человек успел подслушать следующий интересный диалог:
– Черт возьми! Да постарайтесь же идти по прямой линии, г. студент! Ведь вы знаете, что мне скоро придется покинуть вас. Уже семь часов, а у меня назначено рандеву к этому времени.
– Оставьте меня в покое! Я вижу звезды и огненные языки! А вы… вы похожи на замок Дампмартен, который покатывается от смеха.
– Клянусь прыщами моей бабушки, Жан, вы городите такую чушь, что уши вянут слушать вас. Кстати, Жан, что у вас осталось еще сколько-нибудь денег?
– Г. ректор, здесь нет ошибки: «parva boucheria» означает: «маленькая мясная лавка».
– Жан, друг мой Жан, вы знаете, что я назначил свидание этой девочке на мосту Сен-Мишель, что я могу отправиться с нею только к Фалурдель, этой торговке на мосту, и что мне придется заплатить за комнату. Неужели же, друг мой Жан, мы пропили все, что было в кошельке вашего брата? Неужели у вас ничего не осталось денег? Ведь эта старая карга не поверит мне в долг…
– Сознание, что с пользой употребил свое время, стоит дороже всяких денег.
– Черт вас побери! Перестаньте городить вздор! Скажите же, наконец, осталось ли у вас сколько-нибудь денег, или нет? Если осталось, то давайте их сюда, или я вас обыщу, хотя бы вы были такой же прокаженный, как Иов, и такой же шелудивый, как Цезарь!
– Милостивый государь, улица Галиам выходит одним концом на улицу Стекольщиков, а другим концом на улицу Ткачей.
– Да, да, мой друг Жан, мой бедный товарищ, это вы совершенно верно сказали относительно улицы Галиам. Но только, ради Бога, придите в себя. Мне нужно немного денег, а теперь уже семь часов.
– Молчать и слушать! – пробормотал Жан и затянул заплетающимся языком какую-то песню.
– Чтоб ты подавился первым же куском, который попадет тебе в глотку, проклятый школяр! – с сердцем воскликнул капитан, терпение которого окончательно лопнуло, и он сильно толкнул Жана, который, стукнувшись сначала о забор, повалился затем на мостовую. Руководимый тем чувством братского сострадания, которое никогда не покидает бражников, Феб положил голову Жана на одну из тех подушек, которые всеблагое Провидение приуготовило для бедных на всех парижских перекрестках и которые богачи презрительно клеймят названием «куча мусора». Капитан заботливо уложил голову Жана на наклонную плоскость, составленную из кочерыжек капусты, и в то же мгновение школяр захрапел густым басом. Однако, в сердце капитана все еще оставалась некоторая злоба портив Жана.
– Тем хуже для тебя, – проговорил он, обращаясь к крепко спавшему школяру, – если тебя мимоездом подберет чертова повозка! – и затем он удалился.
Давно уже следивший за ними человек, укутанный в плащ, остановился было на минуту перед лежавшим на улице Жаном, как бы не зная, на что решиться; затем, испустив глубокий вздох, он последовал за капитаном.
И мы также, следуя их примеру, оставим Жана спать под открытым небом и последуем за ними, если читатель ничего не имеет против этого.
Войдя в улицу Сент-Андре, капитан Феб заметил, что кто-то следит за ним. Случайно обернувшись, он увидел нечто вроде длинной тени, кравшейся по его следам вдоль стен. Он остановился – и тень остановилась; он снова зашагал – и тень зашагала. Это, впрочем, мало его тревожило.
Пускай его, – сказал он про себя, – ведь у меня нет ни гроша!
Перед Отенским училищем он остановился. Здесь он когда-то учился, и, вследствие оставшейся у него с отроческих лет школьнической привычки, он никогда не проходил мимо здания училища без того, чтобы не нанести поставленной против дверей училища статуе кардинала Пьера Бертрана то оскорбление, на которое так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация, и он делал это с таким озлоблением, что надпись на подножии статуи «Епископ Эдуи» почти уже совершенно стерлась. Итак, он, по усвоенной им себе привычке, остановился перед статуей. Улица была совершенно пуста. Но в эту самую минуту, когда он небрежно застегивал пуговицы своего мундира, подняв голову кверху, он увидел приближавшуюся к нему медленными шагами тень; она приближалась столь медленными шагами, что он успел разглядеть на этой тени шляпу и плащ. Подойдя к нему, тень остановилась и стояла более неподвижная, чем статуя кардинала Бертрана, устремив на Феба два глаза, блестевшие так же, как кошачьи глаза ночью.
Капитан был нетрусливого десятка, и он не испугался бы разбойника с дубиной в руке; но, тем не менее, при виде этой ходячей статуи, этого окаменелого человека, мурашки забегали у него по спине. В то время по городу ходили разные россказни о каком-то буке, о каком-то привидении, расхаживающем ночью по парижским улицам, и эти россказни смутно пришли ему теперь на ум. Он несколько минут молча глядел на привидение и, наконец, проговорил с притворным смехом:
Милостивый государь, если вы, как я надеюсь, вор, то позвольте вам заметить, что вы представляетесь мне цаплей, ловящей орешью скорлупу. Я разорился в пух и прах, мой милый. Вот куда вам следует обратиться. В этой часовне хранится кусок дерева от настоящего креста, в оправе из чистого серебра.
Рука тени высунулась из под плаща и опустилась на плечо капитана, не менее тяжелая, чем медвежья лапа. В то же самое время тень проговорила:
– Капитан Феб де-Шатопер!