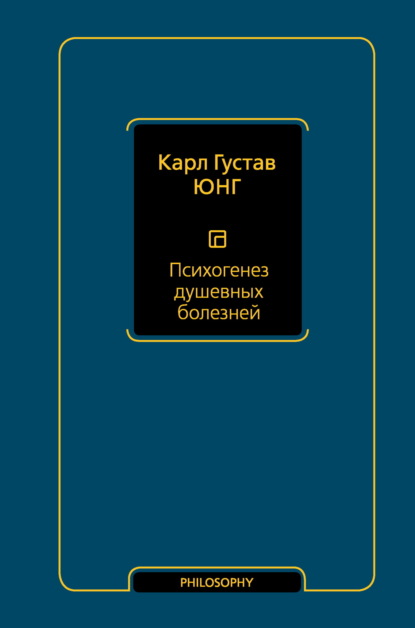
Полная версия:
Психогенез душевных болезней
20 В лаконичном определении апперцепции как «единичного процесса, ведущего к более ясному восприятию определенного психического содержания», содержится гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Согласно такому определению, апперцепция – это волеизъявление, чувствование, аффективность, суггестия, принуждение и прочее, ибо все это суть процессы, «ведущие к более ясному восприятию психического содержания». Этим замечанием мы не стремимся подвергнуть какой-либо негативной критике идею апперцепции Вундта, а лишь указываем на ее огромный размах. Она включает в себя все позитивные психические функции и, кроме того, последовательное приобретение новых ассоциаций; иными словами, она охватывает не что иное, как все тайны психической деятельности, как сознательной, так и бессознательной. Понятие «апперцептивное отупение», предложенное Вейгандтом, таким образом, выражает то, что смутно ощущал Масселон. Однако психологию dementia praecox оно описывает лишь в общих чертах – слишком общих, чтобы мы могли вывести из этого все симптомы.
21 В своей диссертации[51] Мадлен Пеллетье[52] исследует процесс идеации при маниакальном «полете идей» и «умственной слабости», под которой следует понимать явные случаи dementia praecox. Теоретические позиции, с которых она рассматривает полет идей, в основном совпадают с точкой зрения Липмана[53], знание работ которого я полагаю само собой разумеющимся.
22 Пеллетье сравнивает поверхностное течение ассоциаций при dementia praecox с полетом идей, характерной чертой которого является «отсутствие какого-либо направляющего принципа». То же относится и к ассоциациям при dementia praecox: «Направляющая идея отсутствует; сознание остается спутанным, его элементы не упорядочены». «Единственный вид психической деятельности, который в норме можно сравнить с маниакальным состоянием, – это грезы, хотя последние свойственны скорее слабоумию, нежели мании»[54]. Пеллетье права, отмечая значительное сходство между нормальными грезами и поверхностными ассоциациями при маниакальных состояниях, однако это верно только в том случае, если ассоциации записаны на бумаге. С клинической точки зрения больной совсем не похож на мечтателя, пребывающего в грезах. Очевидно, автор чувствует это и находит эту аналогию более подходящей для dementia praecox, которую со времен Райля часто сравнивали со сновидением[55]. Богатство и ускорение мышления при маниакальном полете идей представляет собой резкий контраст по сравнению с вялым, часто прерывающимся течением ассоциаций у мечтательного типа, с одной стороны, и бедности ассоциаций кататоников с их многочисленными персеверациями – с другой. Аналогия верна лишь постольку, поскольку во всех этих случаях направляющая идея действительно отсутствует. При маниакальных состояниях это обусловлено тем, что все представления проникают в сознание с заметным ускорением и сильным чувством[56], чем, вероятно, объясняется недостаток внимания[57]. В грезах внимание отсутствует с самого начала; там же, где нет внимания, ассоциативный процесс неизбежно опускается до уровня сновидения и медленно течет, подчиняясь законам ассоциаций и тяготея главным образом к сходству, контрасту, сосуществованию и словесно-моторным сочетаниям[58]. Множество примеров этого мы можем найти в ежедневных самонаблюдениях и обычных разговорах. Как показывает Пеллетье, ассоциации при dementia praecox строятся по той же схеме. Лучше всего это видно на следующем примере:
Je suis l’être, l’être ancien, Ie vieil Hêtre[59], que l’on peut écrire avec un H. Je suis universel, primordial, divine, catholique, apostolique, Romaine[60]. L’eusses-tu cru, l’être tout cru, suprumu[61], l’enfant Jésus[62]. Je m’appelle Paul, c’est un nom, ce n’est pas une négation[63], on en connait la signification…[64] Je suis éternel, immense, il n’y a ni haut ni bas, fluctuat nec mergitur, le petit bateau[65], vous n’avez pas peur de tomber[66].
23 Приведенный выше пример ясно показывает течение ассоциативного процесса при dementia praecox. Он отличается заметной поверхностностью и развивается посредством многочисленных ассоциаций по созвучию. Однако дезинтеграция настолько выражена, что мы уже не можем сравнивать его с нормальными грезами; вместо этого мы вынуждены уподобить его непосредственно сновидению. Как известно, беседы, которые мы ведем во сне, имеют весьма схожий характер[67]; соответствующие примеры можно найти в труде Фрейда «Толкование сновидений».
24 В работе «Экспериментальные наблюдения за работой памяти» мною показано, что снижение внимания вызывает ассоциации поверхностного типа (словесно-моторные сочетания, ассоциации по созвучию и т. д.); в свою очередь, появление ассоциаций поверхностного типа всегда указывает на нарушение внимания. Таким образом, судя по нашим экспериментальным данным, Пеллетье права, приписывая поверхностный тип ассоциаций при dementia praecox снижению внимания. В отношении этого снижения она использует термин Жане abaissement du niveau mental («снижение уровня сознания»). Кроме того, из ее исследований мы видим, что нарушение внимания вновь прослеживается в центральной проблеме апперцепции.
25 В частности, следует отметить, что Пеллетье упускает из виду явление персеверации, но, с другой стороны, мы обязаны ей ценными наблюдениями касательно символов и символических связей, столь распространенных при dementia praecox. Она пишет: «Следует подчеркнуть, что символы играют большую роль в психических продуктах душевнобольных. При мании преследования и деменции мы сталкиваемся с ними на каждом шагу; это обусловлено тем, что символ – низшая форма мышления. Символ можно определить как ложное восприятие тождественности или сильной аналогии между двумя объектами, между которыми в действительности существует лишь очень отдаленное сходство»[68].
26 Из этой цитаты следует, что Пеллетье связывает кататонические символы с расстройством внимания. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что символы давно считаются обычным явлением в грезах и сновидениях.
27 Психология негативизма, которой в настоящее время посвящено множество публикаций, заслуживает внимания сама по себе. Безусловно, симптомы негативизма не следует рассматривать как нечто ясное и определенное. Существует множество форм и степеней негативизма, которые еще не были клинически изучены и проанализированы с надлежащей тщательностью. Разделение негативизма на активный и пассивный вполне понятно, ибо самые сложные психологические случаи принимают форму активного сопротивления. Будь в этих случаях возможен анализ, во многих из них мы бы обнаружили достаточно четкие мотивы для сопротивления; в таких обстоятельствах говорить о негативизме едва ли уместно. Нередко и пассивные формы с трудом поддаются толкованию. Тем не менее имеется немало случаев, когда совершенно очевидно, что даже простые процессы волеизъявления неизменно трансформируются в свои противоположности. На наш взгляд, негативизм в конечном счете всегда зависит от негативных ассоциаций. Существует ли негативизм, имеющий своим источником спинной мозг, я не знаю. Наиболее широкого взгляда на вопрос негативизма придерживается Блейлер[69]. Он показывает, что «отрицательная внушаемость», или стремление выдавать противоречащие ассоциации, есть не только составляющая нормальной психики, но и распространенный механизм патологических симптомов при истерии, навязчивых состояниях и dementia praecox. Механизм противоречия – это функция, существующая независимо от нормальной ассоциативной деятельности и всецело коренящаяся в «аффективности»; следовательно, он активируется главным образом представлениями, решениями и прочим, окрашенными интенсивным чувственным тоном. «Этот механизм призван оберегать от опрометчивых поступков, побуждать человека взвешивать все за и против». Он действует как противовес внушаемости. Внушаемость – это способность принимать и реализовывать представления, несущие эмоциональную нагрузку; механизм противоречий делает прямо противоположное, посему предложенный Блейлером термин «отрицательная внушаемость» вполне уместен. Тесная связь этих двух функций объясняет, почему клинически они встречаются вместе. (Внушаемость соседствует с непреодолимыми противовнушениями самого пациента при истерии, а также с негативизмом, вынужденным автоматизмом и эхопраксией[70] при dementia praecox.)
28 Важная роль, которую отрицательная внушаемость играет в повседневной психической жизни, объясняет, почему противоречивые ассоциации наблюдаются так часто: они всегда «под рукой»[71].
29 Нечто подобное мы находим и в языке: слова, выражающие общеизвестные противоположности, образуют прочные ассоциативные пары и обычно попадают в категорию избитых сочетаний (черное – белое и т. д.). В примитивных языках для обозначения противоположных понятий иногда используется одно и то же слово. Таким образом, согласно Блейлеру, для возникновения негативистских явлений требуется лишь относительно легкое нарушение в чувственной сфере. Как показал Жане[72], при навязчивых состояниях abaissement du niveau mental вполне достаточно, чтобы запустить «игру противоположностей». Чего же тогда ожидать от «апперцептивного отупения» при dementia praecox! Здесь мы действительно обнаруживаем ту внешне неконтролируемую игру позитивного и негативного, которая часто находит отражение в словесных ассоциациях[73]. Стало быть, по поводу негативизма у нас есть все основания полагать, что и этот симптом тесно связан с «апперцептивным отупением». Центральный контроль психики ослабевает настолько, что уже не может ни содействовать позитивным, ни препятствовать негативным актам, и наоборот[74].
30 Подведем итог вышеизложенному: упомянутые авторы в основном установили, что снижение внимания – или, говоря более обобщенно, «апперцептивное отупение» (Вейгандт) – есть характерная особенность dementia praecox. Поверхностность ассоциаций, символы, стереотипии, персеверации, вынужденный автоматизм, апатия, абулия, нарушения воспроизведения и (в ограниченном смысле) негативизм – все это, в принципе, обусловлено расстройством апперцепции.
31 Тот факт, что общая деградация, как правило, не затрагивает функции понимания и сохранения внимания, на первый взгляд может показаться странным. При dementia praecox (в доступные для общения с пациентом периоды) часто обнаруживается, на удивление, хорошая, почти фотографическая память, склонная подмечать самые обыкновенные обстоятельства, которые обычно ускользают от внимания нормальных людей[75]. Но именно эта особенность показывает, что это за память: она есть не что иное, как пассивная регистрация событий, происходящих в непосредственном окружении. Все, что требует напряжения внимания, остается незамеченным или, самое большее, регистрируется на том же уровне, что ежедневный визит врача или ужин, такое, по крайней мере, складывается впечатление. Вейгандт дает прекрасное описание этого недостатка активного усвоения впечатлений. Способность к пониманию и осмыслению происходящего обычно нарушается только в периоды возбуждения. Понимание и сохранение внимания большей частью пассивно протекают в нас без особых затрат энергии, как не сопровождающиеся вниманием видение и слушание.
32 Хотя вышеупомянутые симптомы (автоматизм, стереотипии и т. д.) в некоторой степени можно вывести из понятия «апперцептивное отупение», предложенного Вейгандтом, его недостаточно для объяснения индивидуального многообразия симптомов, их изменчивости, специфического содержания бреда, галлюцинаций и т. д. Найти разгадку попытались сразу несколько исследователей.
33 Странски[76] изучал проблему dementia praecox с клинической точки зрения. Отталкиваясь от понятия «эмоциональное отупение» Крепелина, он приходит к выводу, что под этим термином следует понимать, «во-первых, бедность или поверхностность эмоциональных реакций; во‑вторых, их несоответствие идейному содержанию, преобладающему в психике в определенное время»[77]. Таким образом, Странски разделяет теорию Крепелина на две составляющие, подчеркивая, что «эмоциональное отупение» – это отнюдь не единственное, с чем мы сталкиваемся в клинической практике. Поразительное несоответствие между идеей и аффектом, которое мы ежедневно наблюдаем при dementia praecox, более распространено в начале заболевания, чем «эмоциональное отупение». Это несоответствие вынуждает Странски предполагать существование двух различных психических факторов, noöpsyche и thymopsyche[78], причем первый включает в себя все сугубо интеллектуальные, а второй – все аффективные процессы. Эти понятия в целом сопоставимы с интеллектом и волей Шопенгауэра. Здоровая психика характеризуется непрерывным, слаженным взаимодействием этих двух факторов. Возникающее несоответствие равнозначно атаксии и дает картину dementia praecox с ее несоразмерными и непонятными аффектами. В этом смысле разделение психических функций на ноопсихические и тимопсихические согласуется с реальностью. Вопрос в том, выглядит ли совершенно обычное содержание, сопровождаемое сильнейшим аффектом, несоответствующим не только для нас, при наших весьма ограниченных представлениях о психике пациента, но и для субъективного восприятия самого больного?
34 Поясню этот вопрос на примере. Как-то раз я зашел к одному человеку в его контору. Внезапно он в ярости вскочил с места и принялся отчаянно бранить сотрудника, который положил газету на правую, а не на левую сторону стола. Я был потрясен и про себя отметил его странную нервозность. Впоследствии от другого служащего я узнал, что упомянутый сотрудник уже десятки раз совершал одну и ту же оплошность, а потому гнев начальника был вполне оправдан.
35 Не получи я последующего разъяснения, у меня сложилось бы в корне неверное представление о психологии этого человека. При dementia praecox мы часто сталкиваемся с подобной ситуацией: характерная «замкнутость» таких больных не позволяет нам заглянуть в их разум, что подтвердит любой психиатр. Вполне возможно, что их возбуждение часто непонятно нам только потому, что мы не видим его ассоциативных причин. То же самое может случиться и с нами: временами у нас внезапно портится настроение, но мы не осознаем, что вызвало эту перемену. Мы отвечаем излишне категоричным и раздраженным тоном и т. д. Если даже нормальному человеку не всегда ясны источники его плохого настроения, то что мы можем знать о психике больного dementia praecox! В силу очевидного несовершенства методов психологической диагностики мы должны быть очень осторожны, предполагая реальное несоответствие в трактовке Странски. Хотя в клинической практике несоответствие встречается часто, дело ни в коем случае не ограничивается dementia praecox. Несоответствие при истерии – это тоже обычное явление; в частности, его можно обнаружить в распространенных истерических «преувеличениях». Противоположностью этого состояния является типичное для истериков belle indifference[79]. Кроме того, мы нередко наблюдаем сильное возбуждение из-за ерунды или скорее из-за чего-то, что как будто нисколько не связано с возбуждением. Психоанализ, однако, позволяет выявить мотив, и реакция пациента мгновенно утрачивает прежнюю необъяснимость. Что касается dementia praecox, то пока мы не можем проникнуть в психику больного достаточно глубоко, чтобы выявить соответствующие связи, а потому вынуждены предполагать, что между ноопсихикой и тимопсихикой существует некое промежуточное звено – атаксия. Благодаря анализу мы знаем, что при истерии никакой атаксии нет – есть просто сверхчувствительность, которая, стоит нам отыскать патогенный комплекс представлений, сразу становится ясной и понятной[80]. Зная, как возникает несоответствие при истерии, разумно ли предполагать наличие совершенно нового механизма при dementia praecox? В целом мы слишком плохо понимаем психологию нормальных людей и истериков[81], чтобы допускать существование совершенно иных, неизвестных науке механизмов, пусть даже само заболевание представляется нам в высшей степени сложным и загадочным. Там, где это возможно, следует воздерживаться от новых принципов объяснения; по этой причине я отказываюсь принимать гипотезу Странски, какой бы прозрачной и оригинальной она ни была.
36 Что же касается экспериментального труда Странски[82], то он заслуживает всяческого восхищения, ибо обеспечивает основу для понимания одного важного симптома, а именно речевой спутанности.
37 Речевая спутанность есть продукт основного психологического расстройства. (Странски называет ее «интрапсихической атаксией».) В случаях, когда отношения между эмоциональной жизнью и идеацией нарушаются, как при dementia praecox, а центральная идея, задающая мыслям то или иное направление, отсутствует (Липман), неизбежно развивается мыслительный процесс, напоминающий полет идей. (Как показала Пеллетье, законы ассоциаций сильнее, чем влияние направляющей идеи.) В речевой сфере наблюдается увеличение количества поверхностных связующих элементов (словесно-моторных ассоциаций и реакций по созвучию), что мы наглядно показали в наших экспериментах с отвлечением внимания. Одновременно с этим происходит уменьшение количества значимых сочетаний. Другие характерные нарушения включают учащение опосредованных ассоциаций, бессмысленные ответы, повторения слова-стимула (часто многократные). В условиях отвлеченного внимания персеверациям свойственно контрадикторное поведение; в наших экспериментах их количество увеличивалось у женщин и уменьшалось у мужчин. Во многих случаях мы могли объяснить персеверацию наличием сильного чувственного тона: представления с ним склонны персеверировать. Повседневный опыт подтверждает это наблюдение. Отвлечение внимания создает своего рода вакуум сознания[83], облегчающий персеверацию, в отличие от состояния сосредоточенного внимания.
38 Позже Странски изучил, что происходит с непрерывными последовательностями словесных ассоциаций в условиях ослабленного внимания. В течение минуты испытуемые должны были говорить перед фонографом все, что приходило им в голову, но при этом не сосредоточивать внимание на содержании сказанного. В качестве отправной точки предлагалось слово-стимул. (В половине экспериментов отвлечение внимания обеспечивалось внешними факторами.)
39 Эксперименты дали интересные результаты: последовательность слов и фраз напоминала устную речь (а также фрагменты письменной речи), которые мы наблюдаем при dementia praecox! Четкая направленность речи исключалась самой структурой эксперимента; слово-стимул задавало более или менее общую «тему» лишь на очень короткий промежуток времени. Странски обнаружил выраженное преобладание поверхностных соединительных элементов (отражающих распад логических связей), множество персевераций (или повторений предыдущего слова, что приблизительно соответствует повторению слова-стимула в наших экспериментах), а также многочисленные контаминации[84] и тесно связанные с ними неологизмы (новообразованные слова и словосочетания).
40 В качестве иллюстрации приведу несколько примеров из обширного материала, собранного Странски:
Аисты стоят на одной ноге, у них есть жены, у них есть дети, аисты приносят детей, приносят детей в дом, в этот дом; представление, которое сложилось у людей об аистах, о том, что они делают; аисты – крупные птицы с длинным клювом, они питаются лягушками; лягушки, плюшки; плюшки пышные, как пышки; с пылу с жару с утра, с утра на завтрак (Fröschen, Frischen, Froschen, die Froschen sind Fruschen an der Früh, in der Früh sind sie mit – Frühstück); кофе, с кофе пьют коньяк, с коньяком пьют вино, а с вином пьют все что угодно; лягушки – большие животные, которые питаются лягушками; аисты питаются птицами, птицы питаются животными; животные большие, животные маленькие, животные – это люди, животные – это не люди [и т. д. и т. п.].
Эти овцы… были мериносами, с которых срезали жир килограммами, с Шейлока срезали жир, срезали полкило [и т. д.].
К… был К… с длинным носом, с носом барана, с носом-тараном, таранить, человек, который таранит, которого таранят (К… war ein K… mit einer langen Nase, mit einer Rammnase, mit einer Rampfnase, mit einer Nase zum Rammen, ein Rammgift, ein Mensch, welcher gerammt hat, welcher gerammt ist) [и т. д.].
41 Из этих примеров видно, каким ассоциативным законам подчиняется мыслительный процесс: главным образом это сходство, сосуществование, словесно-моторные сочетания и созвучие. Кроме того, налицо многочисленные персеверации и повторения («стереотипии», по Зоммеру). Сравнив этот материал с ассоциативным рядом при dementia praecox, приведенным ранее Пеллетье, мы обнаружим много общего[85]: в обоих случаях действуют одни и те же законы сходства, смежности и ассонанса. В анализе Пеллетье отсутствуют лишь стереотипии[86] и персеверации, хотя в ее материале они, несомненно, есть. Позже Странски подкрепит это очевидное совпадение превосходными примерами из dementia praecox.
42 Следует отметить, что в экспериментах Странски с участием здоровых людей встречаются многочисленные объединения слов и фраз, которые можно охарактеризовать как контаминации. Например:
…мясо, никак не выходит из головы, от мыслей не убежишь, особенно когда они неотступны, неотступны, не отступать, ступать, ступенька (uberhaupt ein Fleisch, welches man nicht mehr losbringen kann, die Gedanken man nicht losbringen kann, besonders wenn man perseverieren soll dabei, perseverieren, perseverieren, severieren, Severin) [и т. д.].
43 Согласно Странски, в этой совокупности слит следующий ряд представлений:
а) в Англии потребляют много баранины;
б) я не могу отделаться от этой мысли;
в) они повторяются бесконечно;
г) я должен говорить все, что приходит мне в голову.
44 Контаминация, таким образом, представляет собой сгущение различных представлений и, следовательно, должна рассматриваться фактически как непрямая ассоциация[87]. Это свойство контаминации очевидно в патологических примерах, которые приводит Странски:
Вопрос. Что такое млекопитающее?
Ответ. Это корова, например акушерка.
45 Слово «акушерка» является непрямой ассоциацией на слово «корова» и раскрывает вероятный ход мыслей: корова – рожает живых детенышей – так делают и люди – акушерка[88].
Вопрос. Что вы понимаете под Пресвятой Девой?
Ответ. Поведение девушки.
46 Как справедливо замечает Странски, ход мыслей, вероятно, таков: непорочное зачатие – virgo intacta[89]– целомудренное поведение.
Вопрос. Что такое квадрат?
Ответ. Угловой прямоугольник.
В этом случае сгущение состоит из следующего:
а) квадрат – это прямоугольник;
б) у квадрата четыре угла.
47 Из этих примеров ясно, что многочисленные контаминации, возникающие при отвлеченном внимании, в чем-то похожи на непрямые ассоциации, возникающие в состоянии рассеянности при простых словесных реакциях. Наши эксперименты статистически подтвердили увеличение количества непрямых ассоциаций в условиях отвлеченного внимания.
48 Такое совпадение результатов у трех экспериментаторов: Странски, меня и, так сказать, dementia praecox – не может быть случайным. Оно доказывает правильность наших взглядов и служит дополнительным подтверждением апперцептивной слабости, наиболее яркого из всех дегенеративных симптомов при dementia praecox.
49 Странски указывает, что контаминация часто приводит к диковинным речевым конструкциям, которые настолько причудливы, что напоминают неологизмы, характерные для dementia praecox. Я убежден, что огромное количество неологизмов возникает именно таким образом. Одна юная пациентка, желая убедить меня в том, что абсолютно здорова, как-то воскликнула: «Конечно, я нормальная. Это же бело как день!» Она настойчиво повторила эту фразу несколько раз. Это образование состоит из следующих компонентов:
а) ясно как день;
б) средь бела дня.
50 В 1898 году Найссер[90], анализируя клинические наблюдения, заметил, что новообразованные слова, как, впрочем, и глагольные корни, обычно нельзя отнести ни к глаголам, ни к существительным; на самом деле они вообще не являются словами, а представляют собой целые предложения, ибо всегда служат для иллюстрации некоего процесса. В этом утверждении содержится намек на понятие сгущения, однако Найссер идет еще дальше и прямо говорит об отображении процесса. Здесь я хотел бы напомнить читателю следующее: в своем труде «Толкование сновидений» Фрейд показал, что сновидение – это, в сущности, сгущение[91]. К сожалению, в настоящей работе я не могу подробно останавливаться на всеобъемлющем и чрезвычайно важном психологическом материале, представленном этим до сих пор недооцененным исследователем, иначе мы рискуем уйти слишком далеко в сторону. Вынужден предположить, что читатель знаком с этой основополагающей книгой. Насколько мне известно, до этого времени не было предложено никакого убедительного опровержения взглядов Фрейда, посему я ограничусь утверждением, что сновидения, которые в любом случае имеют многочисленные аналогии с ассоциативными нарушениями при dementia praecox, также характеризуются особыми речевыми сгущениями, состоящими из контаминаций целых предложений и ситуаций. Сходство между языком сновидений и языком dementia praecox[92] отмечал и Крепелин. Из многочисленных примеров, выявленных мною в собственных и чужих сновидениях, приведу один, очень простой. Это одновременно и сгущение, и неологизм. Желая выразить одобрение некой ситуации в сновидении, сновидец заметил: «Это преколепно». Очевидно, что неологизм «преколепно» (Das ist feimos, fein + famos) есть результат слияния слов «прекрасно» и «великолепно».



