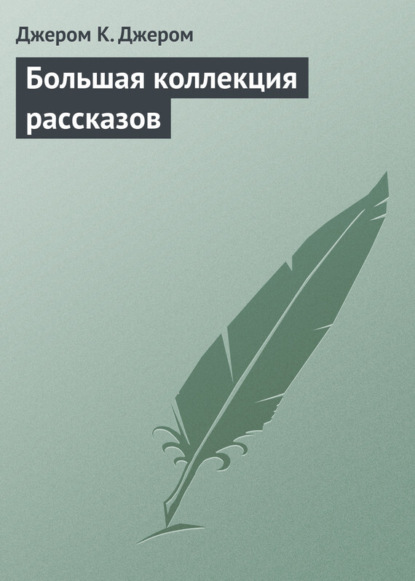 Полная версия
Полная версияБольшая коллекция рассказов
Я заметил, что было бы лучше совсем бросить курить.
– Я сам подумывал об этом, – подхватил мой приятель. – Но, знаете ли, некурящий мужчина делается таким угрюмым… В табаке есть что-то, способствующее общительности.
И, откинувшись на спинку дивана, он выпустил изо рта огромный клуб дыма, распространявшего прямо-таки невозможное зловоние.
– Потом, не угодно ли стаканчик моего кларета? – продолжал он и сам же ответил себе: – Ну, конечно, нет. Никто не желает пить моего кларета, как и курить моих сигар. А знаете что? Три года тому назад, когда я жил в Хаммерсмите, благодаря этому кларету было поймано двое ночных воров. Они, между прочим, взломали у меня буфет и выпили вдвоем пять бутылок моего кларета. Полицейский нашел их потом лежавшими на крыльце соседнего дома; в ногах у них находился мешок с украденными у меня вещами. Воры, наугощавшись кларетом, так хорошо чувствовали себя, что без сопротивления сдались в руки полицейскому и покорно последовали за ним в участок, где тотчас же были освидетельствованы врачом, который нашел у них острое желудочное отравление. С тех пор я постоянно оставляю несколько бутылок этого снадобья в буфете и на кухонном столе для дарового угощения любителей чужой собственности.
Но сам я привык к этому кларету, и он мне полезен. Приходишь иногда домой полумертвым от усталости, выпьешь стаканчика два и вдруг как бы возрождаешься к новой жизни. Начал я его пить по той же причине, по которой привыкал к этим сигарам. Я получаю его прямо из Женевы, и он стоит мне шесть шиллингов за целую дюжину бутылок. Из чего и как выделывается это вино, – не знаю, да и не желаю знать. Я к нему привык, и оно мне не только по вкусу, но даже приносит пользу, а больше мне ничего и не нужно.
Я знаю одного человека, жена которого была чем-то вроде блаженной памяти Ксантиппы. Она весь день только и делала, что пилила мужа; даже по ночам своим громким храпом не давала ему покоя. Но вот она, будучи все время здоровой женщиной, вдруг от чего-то умерла. Друзья поздравили его с избавлением от такой беспокойной супруги и высказали предположение, что теперь он будет наслаждаться деловым спокойствием. Но – увы! – они сильно ошиблись. Целых двадцать два года голос его жены наполнял дом, проникал сквозь стены, разносился по саду и расплывался замирающими звуковыми волнами по окрестностям, и вдруг такая томительная, подавляющая тишина! Дом стал казаться бедному вдовцу чужим, потому что в нем недоставало привычной утренней бури, визгливой брани и вечернего рокота упреков, сопровождаемого тихим треском пылающего камелька. По ночам вдовец не мог спать из-за отсутствия привычного храпа, в котором ему тоже чудились брань и упреки. Беспокойно ворочаясь с боку на бок, он с горькими вздохами бормотал: «Н-да, мы никогда не дорожим тем, что имеем, а понимаем ему цену только после его безвозвратной утраты!»
Наконец он захворал от бессонницы. Доктора пичкали его всевозможными средствами, но ничто не помогало.
Посоветовавшись между собою, они объявили ему, что если он желает спасти свою жизнь, то пусть отыщет себе вторую жену, которая «напиливала» бы ему сон. По соседству немало женщин, нисколько не уступавших покойнице в искусстве «пилить»; но, будучи еще незамужними, они не обладали достаточною практикой в этом искусстве, а ждать, пока они приобретут полный навык, больному было некогда. На счастье больного, когда им уже готово было овладеть отчаяние, в окрестности умер один человек, по словам кумушек, буквально «запиленный» до смерти острым язычком своей жены. Сам еле живой, вдовец отправился к новоовдовевшей на другой же день после похорон ее мужа. Она оказалась настоящей «колючкой», то есть именно тем, что в данное время было нужно вдовцу. Недолго думая он посватался к ней, и через полгода уже имел ее под своей кровлей.
Однако оказалось, что вторая супруга не могла вполне заменить первую: дух у нее был силен, а плоть оказалась немощна. У нее не было такого, то мощного и раскатистого, то пронзительного, возвышающегося до тончайшей фистулы, голоса, так что полнота его звуков не вся доходила до нового мужа, когда он находился в саду. Это вынудило его покидать свое любимое место под сенью деревьев и садиться на окружавшей дом открытой веранде; только там он и мог вполне услаждаться вокальными упражнениями своей новой супруги. Но случалось так, что лишь только он с трубкой и газетой комфортабельно устраивался на веранде, как супруга внезапно умолкала. Тогда он ронял на пол газету и сидел в напряженном и тревожном ожидании. Проходило несколько минут тоскливого безмолвия, и муж начинал нервничать и окликать жену.
«Тут ли ты, дорогая?» – слышался с веранды его слабый и боязливый голос.
«Конечно, тут! Где же мне еще быть, старый колпак?» – доносился из комнаты раздраженный ответ.
«Что же ты замолкла, голубка? – продолжал он с проясневшим лицом. – Говори что-нибудь. Я так люблю, когда ты говоришь».
Но измученная возней по хозяйству пожилая и слабая женщина часто была не в силах работать еще и языком. Муж впадал в новый припадок уныния и, скорбно качая головой, шептал про себя: «Нет, это совсем не то, что моя незабвенная Сусанна… Ах, какая это была женщина!»
Ночью также было не то, более получаса она не могла производить «пиления» и в полном изнеможении опускала голову в подушки, чтобы тут же тихо уснуть, между тем как ее предшественница могла «пилить» далеко за полночь если не самого мужа, то всех других живых существ, с которыми ей приходилось сталкиваться за день. Храпеть, как храпела покойница, она тоже не умела; а между тем этот храп, казавшийся продолжением «пиления», как я уже говорил, также составлял насущную потребность старичка. Обиженный и огорченный, он тряс жену за плечо и плаксиво просил:
«Голубка, что ж ты оборвала на полуслове? Продолжай о том, как Джини подавала завтрак и как я смотрел на нее. Это так интересно…»
– Вот что значит сила привычки, – заключил мой приятель, закуривая свежую сигару.
– Что касается привычки, то и я могу рассказать вам одну занимательную историю, если пожелаете выслушать ее, – вдруг заговорил молчавший до сих пор нью-йоркский издатель.
Разумеется, мы изъявили полную готовность слушать, и американец начал:
– Человек, о котором я поведу свой рассказ, был родом из Джефферсон-Сити. Он родился в этом городе и в течение сорока семи лет ни разу не проводил ночи вне его стен. Это был очень почтенный джентльмен. С девяти часов утра до четырех пополудни он торговал солониной, а в остальное время был ярым пресвитерианцем. Он всегда говорил, что понятия о хорошей жизни и о хороших манерах – одно и то же. Он вставал в семь часов утра, в семь с половиной устраивал семейную молитву, в восемь завтракал, в девять занимался своим делом, в четыре садился на лошадь, которую ему приводили к этому времени, катался на ней до пяти, потом купался или принимал ванну, пил чай, играл с детьми или читал им вслух. Все это проделывалось им до половины седьмого; в семь он садился за обед, затем отправлялся в клуб, где играл в вист до четверти одиннадцатого; ровно в половине одиннадцатого он уже присутствовал дома за вечерней молитвой, а в одиннадцать ложился в постель и тут же мирно засыпал. Двадцать пять лет он вел такой образ жизни без малейших изменений. Выработав себе такую программу, он выполнял ее машинально. Точность его была так велика, что по нему проверялись церковные часы, и местные «астрономы» уверяли, что он зачастую заставлял краснеть самое солнце своей точностью.
Вдруг умирает один из его дальних родственников, живший в Англии и разбогатевший торговлей в Индии, и оставляет ему все свое состояние, не исключая и крупного торгового дела в Ост-Индской компании. Ввиду такой перемены судьбы ему пришлось круто порвать со всем прежним строем своей жизни. Передав свое джефферсонское дело старшему сыну от первого брака, он со второю женою и ее детьми переселился в Лондон.
Из Джефферсон-Сити ои выехал четвертого октября и только семнадцатого добрался до Англии. Прохворав весь переезд, он прибыл совершенно разбитым в Лондон, где по телеграфу заказал себе особняк с полной обстановкой. Несколько дней он пролежал в постели, но потом оправился и изъявил намерение посетить на следующий день Сити, чтобы ознакомиться там со своими новыми делами. Это было в среду вечером, и он велел разбудить себя на другой день пораньше.
Однако в четверг он проснулся только в час пополудни. Жена объяснила ему, что не решалась будить его, предполагая, что ему теперь всего полезнее хороший сон. Он согласился со справедливостью этого предположения. Встав и одевшись, он, не желая манкировать своей религиозной обязанностью, по обыкновению собрал в столовой всю семью вместе с новыми слугами и в половине второго совершил утреннюю молитву. После этого он сел завтракать, а в три часа очутился в Сити. Туда уже успел достичь слух об его феноменальной точности, поэтому его позднее прибытие всех крайне удивило. Рассказав, как и чем было вызвано его опоздание, он заявил, что явится на другой день в половине девятого, то есть в то самое время, в какое он привык начинать свой деловой день.
Он оставался в конторе до позднего вечера и попал домой к самому обеду, но почти ничего не мог есть, хотя раньше всегда проявлял за обеденным столом прекрасный аппетит. Отсутствие аппетита он объяснял тем, что не совершил в этот день своей обычной верховой прогулки, и весь вечер чувствовал себя, как говорится, не в своей тарелке; это он приписывал тому, что не мог сыграть обычной партии виста в клубе, и решил завтра же записаться в какой-нибудь приличный клуб. В одиннадцать он, как всегда, лег спать, но заснуть ему не удалось, и он кашлял и ворочался с боку на бок и, по мере того как шло время, только все более разгуливался и исполнялся энергией. После полуночи его вдруг охватило непреодолимое желание пойти пожелать детям спокойной ночи. Накинув на плечи халат и сунув ноги в туфли, он прокрался в детскую. Скрип дверных петель разбудил ребятишек, чему он очень обрадовался, потому что не намеревался будить их нарочно. Заботливо закутав их в сбившиеся одеяла, он уселся около детских кроваток на стуле и целый час рассказывал детям разные поучительные истории. Потом он перецеловал их, наказал им не шалить и стараться скорее заснуть, а сам, почувствовав сильный голод, спустился в кухню, нашел там кусок холодной дичины с хлебом и основательно закусил. Вернулся он в постель более успокоенным, но все-таки не мог уснуть до пяти часов утра, потому что задумался о новых делах, с которыми ему предстояло много хлопот.
Проснулся он опять ровно в час дня. Жена говорила, что много раз принималась его будить, но все безуспешно. Он был крайне раздражен, и не будь он таким добрым человеком и любящим мужем, его жене, наверное, досталось бы в этот день от него. Поэтому ои снова очутился в Сити только около трех часов.
Так продолжалось целый месяц. Выбитый из привычной колеи, человек напрасно боролся с установившимся против его воли режимом. Он ежедневно просыпался ровно в час, каждую ночь украдкой «обедал» в кухне и засыпал ровно в пять утра.
Он не мог понять причины такой странности. Врачи объяснили ее водянкою мозга, гипнотической невменяемостью, наследственным лунатизмом и т. п. «научными» предположениями. Здоровье его сильно пошатнулось; страдали и его дела. Казалось, он стал жить, так сказать, наизнанку. Дни его как будто не имели ни начала, ни конца, а лишь одну середину. У него не было времени ни для развлечений, ни для отдыха. Когда он чувствовал себя бодрым и общительным, все вокруг него спали, и ему не с кем было перекинуться словом. Объяснение получилось самое неожиданное и таким же неожиданным путем. Как-то раз его дочь стала при нем готовить вечером свои уроки.
«Какой теперь час в Нью-Йорке, папа?» – спросила она, подняв голову от учебника географии.
«В Нью-Йорке? – переспросил отец, взглянув на свои часы. – Здесь ровно десять, а между здешним временем и нью-йоркским разницы немного более четырех с половиною часов. Там часы отстают, следовательно, теперь в Нью-Йорке половина шестого пополудни».
«Стало быть, в Джефферсон-Сити еще меньше?» – вмешалась мать.
«Да, – ответила девочка, взглянув на карту, – Джефферсон-Сити на два градуса западнее Нью-Йорка».
«На два градуса?.. – соображал отец. – В градусе сорок минут. Следовательно, сейчас в Джефферсоне…»
Вдруг он хлопнул себе рукой по лбу, вскочил и крикнул во всю силу своих легких:
«А! Так вот в чем дело!.. Ну, теперь я все понял!.. Слава богу! Теперь все пойдет на лад!..»
«Что с тобой? – встревоженно спрашивала жена. – Что такое? В чем дело?
«А в том, что теперь в Джефферсоне четыре часа дня, то есть время моей обычной верховой прогулки. Вот это-то мне и нужно было знать».
Действительно, ему только это и нужно было знать, чтобы опять попасть в свою колею и зажить вновь нормальной жизнью. Двадцать пять лет он жил по часам, но по часам именно джефферсонским, а не лондонским. Он переменил только градус долготы, а не самого себя. Внедрившаяся за четверть столетия привычка не могла быть изменена по приказанию солнца.
Разобрав со всех сторон это неожиданное открытие, он пришел к заключению, что ему необходимо восстановить прежний образ жизни, то есть жить по джефферсонским часам. Он ясно видел все сопряженные с этим неудобства, но нашел, что с ними ему легче мириться, чем с тем, что он терпел за последний месяц. И вместо того чтобы ломать свои привычки и заставить себя приспособиться к новым условиям, он решил заставить эти условия примениться к нему.
Сообразно с этим он от трех часов дня и до десяти вечера занимался в своей конторе, в десять садился на лошадь и скакал за город, причем в темные вечера брал с собой фонарь. Когда прошел слух об его вечерних загородных прогулках, все местное население стало судить и рядить этого «чудака».
Обедал он в час ночи, а затем отправлялся в «приличный и спокойный» клуб, члены которого охотно согласились играть с новым сочленом в вист с часу ночи до четырех часов утра.
В половине пятого утра он собирал семью для вечерней молитвы, в пять ложился в постель, сразу засыпал и спал как сурок до часу дня.
Весь Сити зубоскалил над ним, но это нисколько его не смущало. Одно только терзало его: невозможность бывать в церкви. Каждое воскресенье в пять часов дня он чувствовал потребность присутствовать на утреннем богослужении, но в это время не было такого богослужения. В семь часов вечера в эти дни он скромно «полдничал», в одиннадцать «обедал», в полночь пил послеобеденный чай, в три часа ночи слегка закусывал хлебом с сыром, ложился спать на час раньше, то есть в четыре утра, и, чувствуя себя неудовлетворенным, не мог заснуть до пяти часов.
– Это был человек привычки, – заключил рассказчик.
Когда он замолчал и стал допивать свое пиво, я, сказав несколько приличных случаю слов, поспешил выбраться на палубу, чтобы отдышаться от дыма бельгийских сигар и поразмышлять на свежем морском воздухе о только что услышанных рассказах моего соотечественника и американца о могущественной силе привычки.
IX. КОЕ-ЧТО О РАССЕЯННОСТИ И ЗАБЫВЧИВОСТИ
Вы приглашаете его к себе на обед в четверг и, помня его рассеянность, предупреждаете:
– Смотрите, не явитесь в среду или в пятницу, а помните: в четверг, понимаете? У меня соберутся несколько человек, которым давно уже хотелось познакомиться с вами. Не перепутайте же, ради Бога!
Отыскивая свою записную книжку, он добродушно смеется:
– Не беспокойтесь. На этот раз явлюсь в назначенный день и час с точностью хронометра. В среду я ни в каком случае не мог бы попасть к вам, потому что приглашен в Мэншон-хауз… не помню только по какому случаю. А в пятницу, видите ли, я должен отправиться в Шотландию, так чтобы в воскресенье быть на месте и присутствовать… кажется, на открытии выставки… Ах, Боже мой! куда же делась моя записная книжка?.. Ну, все равно, я запишу просто на бумажке… Вот видите, записываю?
Вы наблюдаете, как он совершенно верно заносит на лоскуток бумаги, что в четверг обедает у вас в такое-то время, и как потом пришпиливает эту бумажку к стене над письменным столом. Успокоенный, вы возвращаетесь домой и говорите своей жене:
– Ну, на этот раз он наверняка не обманет: при мне же аккуратно записал. Тем более что как раз все остальные дни этой недели у него заняты в других местах, и он отлично об этом помнит.
Наступает четверг. Восемь часов вечера. Гости съезжаются. Его еще нет, но если он и опоздает на четверть часа, это еще не беда. В половине девятого ваша супруга врывается в кухню, где кухарка сообщает ей, что если через десять минут все еще нельзя будет подавать на стол, то она, кухарка, умывает руки, потому что ее кулинарные произведения – не гости и ждать больше не могут.
Вернувшись в столовую, ваша супруга намекает, что «семеро одного не ждут» и что если любезные гости желают кушать, то лучше дольше не медлить. В то же время она кидает вам такие взгляды, которые ясно говорят, что она винит вас: наверное, вы не так, как следовало, пригласили его, то есть не приняли во внимание его рассеянности и этим поставили и ее, свою жену, и самого себя, и гостей в такое неловкое положение.
Начался обед. За супом и рыбой вы развлекаете гостей, и вместе с тем оправдываетесь перед женою анекдотами об его феноменальной рассеянности. За следующими блюдами его пустое место наводит тень на весь стол, а за десертом беседа переходит на умерших родственников и знакомых. Вообще, весь обед и вечер испорчены.
В пятницу, в четверть девятого, он подкатывает к вашему подъезду и неистово звонит. Услыхав его громкий голос, разносящийся по передней, вы спешите к нему навстречу.
– Простите, опоздал чуточку! – извиняется он, крепко пожимая вам руку. – Такая досада: этот глупейший кэбмен повез меня сначала на площадь Альфреда, а потом…
– Бог с ним, с вашим кэбменом! – обрываете вы его, как давнишнего знакомого, с которым можно и не церемониться, и спрашиваете, чему вы обязаны видеть его у себя сегодня.
Вполне понятно, что после вчерашнего инцидента вы не питаете особенно нежных чувств к его виновнику, и потому ваш вопрос звучит не совсем вежливо.
Но он громко смеется, хлопает вас по плечу и весело восклицает:
– Как чему, да ведь вы сами же пригласили меня на сегодня обедать? Предупреждаю, что я голоден, как волк, и…
– В таком случае вам придется отправиться в ближайший ресторан, – отвечаете вы. – При всем желании сегодня я не могу накормить вас: мы давно уже пообедали.
– Давно пообедали?! Но ведь еще только начало девятого, а пригласили меня к восьми? – недоумевает он. – Это похоже на насмешку, и я…
– С большим правом это мог бы сказать о вас я, – снова прерываете вы его. – Я приглашал вас на обед в четверг, а не в пятницу. Вчера мы, – я с женою и нарочно приглашенные ради вас гости, – так долго прождали вас, что и обед был испорчен, и весь вечер пропал.
Он смотрит на вас с недоверием и потом бормочет упавшим голосом и с краскою смущения на лице:
– Неужели так?.. Почему же это я вообразил, что вы пригласили меня именно на пятницу?.. Гм… странно!
– А потому, – поясняете вы, – что если бы я приглашал вас на пятницу, то вы непременно запомнили бы либо четверг, либо субботу; таково уж свойство вашей удивительной памяти. Ведь вы собирались сегодня ехать в Эдинбург…
– Ах, бог мой! – восклицает он, взмахивая руками, – ведь и в самом деле я сегодня должен был ехать в Эдинбург…
И, не говоря больше ни слова, он как сумасшедший вылетает на улицу и благим матом зовет обратно только что отъехавший кэб.
Возвращаясь к себе в кабинет, вы размышляете о том, что теперь ему придется пропутешествовать до Шотландии в вечернем костюме и что утром ему придется приобрести для себя другое платье, и как будет трудно сделать это, потому что едва ли найдется готовое на его фигуру.
Но еще хуже складываются события, когда он сам приглашает гостей к себе. Помню, как однажды он позвал на свою дачу человек около двадцати, обещав угостить их чем-то необыкновенным, а вечером устроить «интересное» катанье на лодках, с музыкой и пением. Разумеется, он тут же и забыл о своем приглашении и был крайне изумлен, когда в назначенный день к нему нахлынула целая толпа разряженных гостей. Не припомню, как он тогда выпутался из петли, но знаю, что потом многие из приглашенных сделались его смертельными врагами.
В другой раз он предложил одному из наших знакомых, мистеру Холларду, прокатиться с ним и своей невестой, мисс Линой (кстати сказать, он состоял одновременно женихом трех девиц, но, находясь с одной, совершенно забывал о существовании двух остальных), в кабриолете. Холлард согласился, и они втроем укатили. Дело было в гостях у одного из его родственников. Мы, в ожидании возвращения катающихся, остались в доме, чтобы потом вместе пообедать. Часа через полтора вернулся один Холлард и с удрученным видом бросился в кресло.
– Что случилось? – спросил я, бывший с ним на короткой ноге.
– Ах, не стоит и говорить! – досадливо отмахнулся он.
– Однако в чем же дело? – приступили к нему другие. – Экипаж, что ли, опрокинулся?
– Нет, только… я…
Его нервы оказались сильно потрясенными, а язык – парализованным.
– Но что же случилось с вами-то? – продолжал приставать я, пока остальные только молча переглядывались.
Холлард попросил стакан воды, залпом выпил его и потом довольно связно рассказал свое приключение.
– Только что мы успели благополучно избежать столкновения с вагоном трамвая, – начал рассказчик, – как нужно было завернуть за угол… Вы знаете манеру нашего милейшего Мак-Кью (так звали чудака, подвиги которого я описываю) завертывать за углы: большою дугою, поперек улицы и с опасною близостью к противоположному фонарному столбу. Я уже не раз с ним ездил и привык к особенностям его езды; но на этот раз почему-то не приготовился к его эксцентричным поворотам, поэтому, при первом же таком повороте кабриолета, вдруг очутился сидящим посреди мостовой и окруженным толпою гогочущих зевак.
В подобных случаях всегда проходит некоторое время прежде чем человек поймет, где он и что с ним. Так и я. Пока я пришел в себя и поднялся на ноги, от кабриолета не осталось и следа. Между тем толпа зевак все увеличивалась, комментируя случившееся со мною на все лады и не стесняясь в сильных выражениях. С трудом протиснувшись сквозь это милое собрание гранильщиков лондонской мостовой, я догнал проходивший мимо трамвай и уже на нем вернулся сюда. Всего досаднее мне то, что ни Мак-Кью ни мисс Лина, очевидно, не заметили, на какую тяжесть облегчился их экипаж; они даже не оглянулись и продолжали мчаться вперед, словно у них все было в полном порядке. Неужели они оба могли забыть, что я сижу сзади них? А впрочем, – добавил Холлард, – мне всего досаднее на самого себя, зачем я, согласившись занять кучерское место, не настоял на том, чтобы мне были переданы и обязанности кучера. Я таких смелых и фантастических загибов за углы не делаю, и все обошлось бы вполне благополучно.
В тот же день, вечером, я встретил Мак-Кью в театре. Места у нас с ним были почти рядом, и лишь только он меня увидел, как шагнул ко мне чуть не через колени сидевших между нами двух почтенных дам и загрохотал на весь зал:
– А, это вы? Вот вас-то мне и надо! Боялся, что вы не приедете… Скажите, пожалуйста, брал я сегодня с собой молодого Холларда, когда отправился прокатиться с мисс Линой?
– Брали, – ответил я. – Ведь мы все вместе были у Холлардов, и вы оттуда…
– Вот-вот, то же самое говорит и Лина! – подхватил он, сияя во все лицо, точно бог весть какую новость узнал от меня. – Лина уверяет, будто мы брали его с собой, а я готов побожиться, что его совсем и не было у Холлардов.
– Нет, он был, и вы попросили его сесть на кучерское место, когда отправлялись кататься, но править стали сами и выронили его на каком-то углу, – напомнил ему я.
– Не может быть?! – рявкнул он на весь театр, возбудив негодование зрителей, действующих на сцене лиц и представителей полиции. – Я совсем этого не помню.
– Зато Холлард отлично помнит. Спросите его самого, – ответил я.
Все знакомые Мак-Кью были уверены, что ему никогда не удастся жениться, между прочим, уж по одному тому, что он ни за что не запомнит день, час, церковь и невесту; а если каким-нибудь чудом и запечатлеет все это в своей «решетчатой» памяти, то что-нибудь так напутает, что свадьба непременно расстроится. Многие даже думали, что Мак-Кью уже давно женат, только не помнит этого факта. Я сам был убежден, что если он еще не женат и свадьба каким-нибудь чудом состоится, то через несколько дней он все равно позабудет об этом.
Но мы все ошибались. Церемония его бракосочетания состоялась, хотя и не с мисс Линой, а с другой девицей, которую я увидел в первый раз лишь в церкви. Это была на вид особа очень миленькая, но по ее глазам я заметил, что она не из тех, которые могут допустить, чтобы муж забыл о них.



