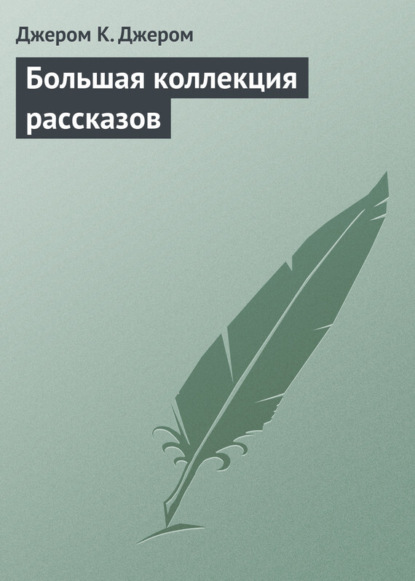 Полная версия
Полная версияБольшая коллекция рассказов
– О нет, не в этой, собственно, комнате, – поспешила возразить хозяйка, видимо, пораженная моим взволнованным голосом. – Мы успели снести ее наверх, где она немного спустя и умерла. Она приехала сюда уже совершенно больная. Если бы мы знали это, то не пустили бы ее к себе. Люди избегают домов, в которых кто-нибудь умер, как будто есть такие дома, в которых никто никогда не умирал. И действительно, после того у нас никто не останавливался. Наверное, не остановились бы и вы, если бы знали, не так ли? И я, быть может, напрасно вам проговорилась, или вы, как писатель, чужды этих глупых предрассудков? – полувызывающе-полушутливо продолжала она.
– Совершенно чужд, – уверил я ее и поспешил спросить: – А у вас что-нибудь осталось после умершей?
– Только несколько книг и фотографии, да кое-какие вещи, какие обыкновенно берут с собой люди, едущие ненадолго в деревню. Ее родственники хотели прислать за этими вещами, но потом, наверное, забыли, потому что никто не являлся и никаких распоряжений относительно них мы не получали. Вот они и лежат у нас.
Собрав все со стола и повернувшись, чтобы уйти хозяйка прибавила:
– Это было давно, лет двадцать тому назад. Надеюсь, на вас это не произведет неприятного впечатления?
– Конечно, нет! – досадливо воскликнул я. – Я только так спросил.
Хозяйка ушла, а я задумался над вопросом, уж не правда ли то, что принято нами считать плодом одного невежественного суеверия или расстроенной фантазии? Два дня спустя мне пришлось сделать открытие, которое подтвердило многие из моих смутных догадок.
Роясь все в том же пыльном книжном шкафу, я нашел в одном из ящиков, вделанных в его нижнюю часть, среди груды растрепанных и разрозненных книг и тетрадок, дневник, переложенный множеством писем и спрессованных цветов. Страницы этого дневника были исписаны тем же тонким и неровным почерком, каким были испещрены и поля того томика стихотворений, о котором я уже говорил, но только не карандашом, а чернилами, побуревшими от времени, так же как и цветы, местами застилавшие пожелтевшие страницы бумаги. Жадный, как и всякий другой писатель, к «человеческим документам», я с чувством глубокого наслаждения принялся читать дневник, на обложке которого значился один из пятидесятых годов прошлого столетия.
То, что я читал, было совсем обыденной историей. Он был художником, как водится во всех такого рода историях. Она была сверстницей и товаришем его детских игр, и они любили друг друга бессознательно до того дня, когда вдруг поняли это и почувствовали, что они уж не дети.
Приведу некоторые отрывки из ее дневника.
«Мая 18-го. – Не знаю, что сказать, с чего начать. Крис любит меня. Я молилась Богу, чтобы быть достойной любви дорогого Криса, и потом танцевала в своей комнате босиком, чтобы не разбудить спящих внизу; танцевала от безумной радости. Он страстно целовал мои руки, потом обвил их вокруг своей шеи и принялся уверять, что это руки богини. После этого он опустился передо мною на колени и опять начал целовать мне руки. Теперь я сама целую их в те места, к которым прикасались его губы. Я радуюсь тому, что мои руки так хороши, как он уверяет. О Господи, как Ты добр ко мне! Помоги мне быть ему доброй и верной женой. Помоги мне никогда ни на одно мгновение не причинять ему никакого горя, даже малейшей неприятности. О, как бы я желала любить его так крепко и сильно, как никто никогда никого не любил еще на свете…»
И много, на десятках страниц, шел такой же прелестный вздор, который один в течение тысячелетий поддерживает в равновесии земной шар и не дает ему от ужаса перекувырнуться в пространстве.
Затем, через девять месяцев:
«Февраля 10-го. – Крис уехал сегодня поутру. При прощании он сунул мне в руки маленький пакет и сказал, что отдает мне самое дорогое, что у него есть. Я вскрыла пакет только тогда, когда осталась одна в своей комнате. В нем оказался мой собственный портрет, но только еще лучше меня самой. Он писал с меня этот портрет потихоньку и не хотел показывать мне самой, как я ни просила об этом. Напрасно только он сделал мне такое грустное лицо. Я целую свои губы на портрете, потому что он так любил целовать их на оригинале. О, дорогой мой! Много пройдет времени прежде, чем тебе можно будет опять целовать меня.
Он хорошо сделал, что решился, наконец, уехать. Несмотря на всю горесть разлуки с ним, я рада, что он уехал. Его талант не мог развиться в провинции, я это понимаю. Теперь он отправился в Париж и Рим, и там сделается великим. Даже здешний глупый народ понимает, что в нем искра Божия, и что этой искре нужно дать разгореться именно там, где веет свежий воздух, а не давать ей погаснуть в нашей глуши. Но, о боже мой, как долго, как страшно долго буду я лишена счастья видеть моего дорогого, мое счастье, мое божество!..»
По поводу каждого письма, полученного от него, следуют десятки страниц сердечных, восторженных излияний; но эти письма становятся все более короткими и холодными, и в словах дневника проскальзывает все усиливающаяся тревога, не высказываемая, однако, прямо.
«Марта 12-го. – Прошло шесть недель, а письма от Криса нет. Между тем я так жажду хоть одной строчки от него. Последнее его письмо я исцеловала до такой степени, что оно превратилось в лоскутки. Надеюсь, что он будет писать почаще, когда попадет в Лондон. Я знаю, что он усиленно работает, и с моей стороны прямо грех требовать, чтобы он писал чаще. Конечно, будь я на его месте, я не стала бы спать ночи напролет и все-таки часто писала бы ему. Но, очевидно, мужчины тверже нас, женщин… О Господи! помоги мне, поддержи меня, если случится что-нибудь такое… Ах, да что это сегодня со мной? Я начинаю сходить с ума! Чего это я так тревожусь? Ведь Крис всегда был такой неаккуратный и небрежный… Я накажу его за это, когда он вернется; но, конечно, не очень жестоко…»
Хотя письма от Кристиана продолжают приходить, судя по возрастающей горечи и тревоге записей в дневнике (многих писем не сохранилось, поэтому я не мог судить непосредственно об их качестве), в них мало утешительного. Страницы дневника все чаще и чаще заливаются потоками слез, от которых расплываются чернила, так что местами совсем нельзя прочесть написанного.
Проходит несколько месяцев, и в тетрадь уже более твердым и ясным почерком заносится следующая запись: «Все кончено. И я рада, что кончилось. Я написала ему, что отказываюсь от него, что перестала любить его, и что поэтому нам лучше освободить друг друга от напрасных клятв в вечной любви. Так гораздо лучше. Если бы я не сделала так, то могла бы дождаться, что он сам попросит меня об этом, а я знаю, как было бы трудно ему первому сказать об окончательном разрыве. Он всегда был такой деликатный. Теперь он со спокойной совестью может жениться на той и никогда не узнает, как я страдала. Я понимаю, что она ему более подходит, чем я. Надеюсь, что он будет с нею счастлив. Думаю, что я избрала правильный путь…»
На следующей странице запись еще более твердым почерком; писалось с сильным нажимом пера, чуть не прорезавшим бумагу:
«Зачем я лгу самой себе? Ведь я ненавижу ее! Я бы убила ее, если бы могла. Надеюсь, она сделает его несчастным, так что он возненавидит ее так же, как ненавижу я, и она умрет от его ненависти и презрения… Ах, зачем я послала ему то ужасное, лживое письмо! Он покажет ей это письмо, и она будет смотреть через это письмо на меня и осмеивать меня. Я могла бы заставить его сдержать слово, данное мне. Он не решился бы сам изменить ему…
Я забочусь не о поддержании своего женского достоинства и права: это ведь одни пустые слова; пусть думают и говорят обо мне, что угодно. Мне нужно одно: его любовь, его ласки, его поцелуи и объятья. Он мой. Он когда-то любил меня, одну меня. Я отказалась от него только потому, что мне казалось интересным разыграть из себя святую. Но это была ложь. Лучше мне быть дурной, лишь бы удержать его любовь. Зачем я обманула самое себя? Ведь он мне необходим, как воздух, без которого я не могу дышать. Мне ничего не нужно, кроме его любви, его поцелуев…»
Еще несколько таких строк, а потом:
«Боже мой! что я пишу? Неужели у меня нет стыда, нет самолюбия, нет силы воли?.. О Господи, помоги мне!..»
На этом дневник прерывается. Больше ни слова.
Некоторые из ее писем были подписаны «Крис», а другие полным именем: «Кристиан» и к этому имени была присоединена фамилия, которую я хорошо знал. Эта фамилия принадлежала одному известному художнику, руку которого я часто пожимал. Я вспомнил его довольно красивую, но суровую жену и его большой, холодный и неуютный дом-дворец в Кенсингтоне, походивший скорее на музей, в котором собраны художественные произведения, чем на жилое здание. И в этом доме-музее, где постоянно толклись чужие люди, сам хозяин, бледный, изможденный, вечно раздраженный и резкий на язык, ходил как один из случайных гостей, – не тех гостей, которые приходят повеселиться, а тех, которые своими посещениями отбывают неприятную повинность и не могут скрыть этого.
Рядом с этим измученным славою и богатством лицом вставало передо мною милое и трогательно печальное личико молодой девушки, оригинала портрета, и когда я взглянул в темный угол, она снова представилась мне в своем выцветшем лиловом платье с кружевами и смотрела на меня большими, мягкими и жалобными глазами.
Я встал, достал из шкафа портрет и хотел вынуть его из рамки, чтобы узнать имя оригинала, которое наверняка было написано на обороте. Ни в дневнике, ни в книгах я не находил этого имени; очевидно, девушка не любила его и избегала писать. Но как раз в эту минуту вошла хозяйка, неся скатерть и чайную посуду.
– Я доставал книги, – сказал я, указывая на шкаф, – и когда я вынимал их с верхней полки, на пол выпал вот этот миниатюрный портрет молодой особы. Лицо кажется мне знакомым, но я никак не могу припомнить, где я его видел. Может быть, вы знаете, кто это?
Хозяйка взяла у меня из рук портрет, и по ее давно поблекшему лицу, носившему еще слабые следы былой красоты, пробежал легкий румянец.
– Так вот где он оказался! – воскликнула она. – Странно, что мне никогда не приходило в голову искать его среди этих книг… Это мой портрет. Он много лет назад был списан с меня одним знакомым художником.
Я перевел глаза с портрета на эту женщину, стоявшую передо мною в легкой мгле надвигающегося вечера, и мне казалось, что я только теперь в первый раз увидел ее.
Конечно, это были те же черты, только сильно измененные временем; те же большие темные глаза, только запавшие глубоко в орбиты и потухшие от лет и слез.
– Да, да, полное сходство, – по возможности развязно проговорил я, стараясь скрыть свое смущение. – И как это я сразу не разглядел такого поразительного сходства?
Вскоре я покинул это тихое местечко, но история портрета произвела на меня такое впечатление, что я даже решился описать ее.
VII. «ВСЕОБЩИЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ»
Это был очень интересный субъект. Люди, имевшие возможность наблюдать его непосредственно, с самого его младенческого возраста, рассказывали мне, что девятнадцати месяцев от роду он неутешно плакал по поводу того, что бабушка не позволяла ему кормить ее с ложки, а трех с половиною лет он был выловлен из кадки с водою, в которую забрался с целью научить пребывавшую там на дне лягушку плавать, как плавают «большие мальчики».
Два года спустя он повредил себе правый глаз, пытаясь внушить кошке, как следует перетаскивать с места на место котят, не причиняя им боли. В тот же период он был сильно ужален в лицо пчелою, которую хотел пересадить с одного цветка на другой, более, по его мнению, для нее подходящий в смысле извлечения из него сладкого сока.
Вообще он всегда стремился помогать другим. Например, он по целым часам читал наставления курам, как следует высиживать цыплят, и часто отказывался от прогулок и игр со сверстниками, чтобы остаться дома со своей белкой и разъяснить ей, какие орехи более пригодны для нее.
Будучи около семи лет от роду, он вел споры со своей матерью относительно ухода за грудными детьми и упрекал отца в неумении воспитывать более взрослых детей, в том числе и самого его.
Он был очень добрый мальчик и всегда охотно позволял своим товарищам по школе списывать у него решение задач, мало того, что позволял, но даже чуть не насильно навязывал плоды своих трудов тем, которые и не просили его об этом. Он делал это от души. К несчастью, его решения постоянно оказывались неверными, и товарищи, срезавшиеся на них и, подобно всем людям, малым и большим, считавшиеся не с побудительными причинами, а лишь с одними результатами побуждений, по выходу из класса отплачивали ему за полученные из-за него дурные отметки доброй порцией тумаков.
Все его силы уходили на учение других, так что их не оставалось на то, чтобы учиться самому. Помню такой случай. Во время очень бурного переезда по каналу он бросился на капитанский мостик и стал было «учить» старого морского волка, как править кораблем. Разумеется, его тут же попросили удалиться на свое пассажирское место и не соваться не в свое дело.
Я познакомился с ним в трамвае при следующих обстоятельствах. Я сидел между двумя дамами, когда кондуктор пришел собирать плату за проезд. Одна из моих соседок вручила ему шестипенсовик с просьбою высадить ее у цирка Пиккадилли, куда проезд стоил только два пенса. Другая моя соседка оказалась подругой первой. Вынув из портмоне шиллинг и передавая его кондуктору, она сказала первой даме:
– Нет, милочка, мы сделаем иначе. Я должна тебе шесть пенсов. Ты отдашь мне четыре, а я уплачу за нас обеих.
Кондуктор взял шиллинг, выдал два билета по два пенса и занялся разрешением заданной ему мудреной арифметической задачи.
– Не беспокойтесь, так будет верно, – убеждала его моя соседка слева. – Дайте моей подруге четыре пенса сдачи. (Кондуктор покорно исполнил это требование.) А ты, – обратилась она к подруге, – отдай мне эти четыре пенса назад… Вот так. Теперь вы, – новое обращение к кондуктору, – отдайте мне восемь пенсов. Ну, вот, все в порядке, – заключила она, когда получила и эти восемь пенсов.
Кондуктор вышел из вагона на площадку, ворча себе под нос о напрасном обременении его такими сложными денежными операциями. И я невольно посочувствовал ему.
– Теперь я должна тебе шиллинг, – заявила моя соседка слева своей подруге.
Я счел инцидент исчерпанным. Но вдруг сидевший напротив джентльмен, цветущего вида, крикнул трубным голосом:
– Эй, кондуктор! Вы обочли этих дам на четыре пенса.
– Что вы сочиняете?! – с негодованием возразил появившийся вновь в дверях кондуктор. – Ведь я выдал им два билета по два пенса…
– Ну да. Но два билета по два пенса составляют не восемь, а всего четыре пенса, – продолжал трубить цветущий джентльмен и, обратившись к моей соседке справа, вежливо спросил: – Позвольте узнать, мэм, сколько вы изволили отдать кондуктору?
– Шесть пенсов, – ответила та, роясь в своем кошельке. – А потом я отдала своей подруге четыре пенса.
– Нет, нет, ты ошибаешься! – горячо запротестовала соседка слева. – Ведь мы начали с того, что я была тебе должна шесть пенсов…
– Да, но я все-таки отдала тебе четыре пенса, – настаивала ее спутница.
– Вы дали мне шиллинг, – вмешался кондуктор, тыча пальцем в мою соседку слева.
– Верно, – подтвердила та.
– А я дал вам сдачи сначала шесть пенсов, потом еще два пенса, не так ли? – продолжал кондуктор.
– И это верно, – согласилась дама.
– Потом я отдал вон той, – снова бесцеремонное тыканье пальцем в другую мою соседку, – четыре пенса, не так ли?
– А я тут же передала их ей! – подхватила эта дама.
– Ну, вот и выходит, что я обсчитал не кого-нибудь из вас, а самого себя на четыре пенса! – решил кондуктор. – Кто же теперь вернет их мне?
– Но ведь одна из этих леди дала вам шесть пенсов, – снова вступился цветущий джентльмен.
– Ну да, и я не отказываюсь от этого. Совершенно верно, эта вон пассажирка, – опять ткнул пальцем кондуктор, – дала мне шесть пенсов, которые я потом и вернул вон той. Хотите, обыщите меня, и вы увидите, что у меня ни в сумке, ни в карманах нет шестипенсовой монеты. Я как получил ее, так тут же и передал назад из рук в руки. Говорю: я обсчитал не их, а самого себя, и теперь мне интересно знать, с кого я получу назад свои деньги?
После дальнейших переговоров между дамами, цветущим джентльменом и кондуктором все у них до такой степени перепуталось в уме, что никто из четырех заинтересованных лиц уже не мог сказать ничего точного; они только противоречили и себе и друг другу. Цветущий джентльмен взялся было разобрать дело, к общему удовольствию, но в результате получилось то, что, еще не доезжая до первого места стоянки, дамы и их заступник обвинили кондуктора в присвоении чужой собственности; кондуктор пригласил полисмена; последний записал имена и адреса дам, чтобы возбудить против них судебное преследование за неуплату следуемых с них за проезд четырех пенсов (дамы вовсе не отказывались уладить возникшее между ними и кондуктором недоразумение возвращением или отдачей ему этой суммы, но цветущий джентльмен препятствовал им в этом); одна из подруг прониклась уверенностью, что другая хотела обмануть ее на четыре пенса, и обвиняемая в этом истерически разрыдалась.
Обе дамы высадились у цирка Пиккадилли, а я и цветущий джентльмен поехали дальше, до вокзала Черинг-Кросс. Там, у кассы, выяснилось, что нам с цветущим джентльменом предстояло ехать по железной дороге в одно и то же предместье, и мы, разговорившись, сели в одно купе. Он всю дорогу толковал о случае с четырьмя пенсами и сильно возмущался.
Мы обменялись рукопожатием у дверей моего дома, причем мой случайный спутник выразил свое восхищение по поводу открытия, что мы с ним соседи. Что привлекло его во мне – осталось для меня тайной; мне же он совсем не понравился, и я отнесся к нему прохладно. Впоследствии я узнал, что к числу его особенностей принадлежало свойство восхищаться каждым человеком, который не оскорблял его прямо в глаза.
Дня три спустя он вдруг, без всякого предупреждения, влетел ко мне в кабинет и извинился в том, что не мог явиться раньше.
– Подхожу к вам и встречаю почтальона, который передал мне вот это для вас, – продолжал он, вручая мне синий пакет. – Очевидно, это напоминает о взносе за пользование водопроводом. Против этого нужно возбудить протест: срок наступит только в сентябре, а теперь только июнь. Вы не обязаны делать такие ранние взносы.
Я возразил ему, что так как во всяком случае нужно платить за пользование водопроводом, то совершенно все равно, сделать это в июне или сентябре.
– Нет, тут дело в принципе, – сказал он. – К чему вам платить за то, чего еще не дают? С какой стати вы будете уплачивать, чего еще не должны?
Он с большим красноречием распространился на эту тему, и я имел глупость слушать его. В какие-нибудь полчаса он убедил меня в том, что данный вопрос связан с неотъемлемыми правами британских граждан и что я буду недостоин пользоваться этими правами, трудами и кровью завоеванными для меня моими предками, если сделаю в июне то, что следовало сделать только в сентябре. Вообще, он сумел так настроить меня, что я тут же написал заведующему «водяным» сбором лицу резкое письмо, которое потом обошлось мне в зале суда в пятьдесят фунтов стерлингов, и это помимо платы за водопровод, которую тоже пришлось внести в свое время.
После этого я всячески стал избегать его, но, живя по соседству, разумеется, не мог не сталкиваться с ним и не узнать его покороче. Вся его жизнь доказывала, что не было человека, более его пламеневшего любовью к ближнему и стремившегося сделать каждому хоть что-нибудь хорошее; но по какому-то злому року все его добрые намерения никому не приносили пользы.
В один рождественский вечер, стоя в дверях одной фешенебельной гостиной и дожидаясь, когда обо мне доложат, я был свидетелем такой сцены. Десятка полтора почтенных мужчин и дам торжественным шагом ходили вокруг ряда стульев, расставленных посередине комнаты, между тем как Поплетон (так звали этого благодетеля) играл на пианино. По временам он вдруг прекращал игру, и по его знаку публика опускалась на стулья, вокруг которых ходила, видимо довольная возможностью отдохнуть. Но один из присутствовавших не сел и направился к двери, провожаемый завистливыми взглядами остальных. Когда он подошел ко мне, я спросил его, что значит эта странная церемония.
– Ах, лучше и не спрашивайте! – произнес он, махнув рукой. – Это одна из глупых выдумок сумасшедшего Поплетона. Того и гляди, заставит всех играть в куклы! – в сердцах добавил он и поспешно вышел из гостиной.
Я попросил служанку не беспокоиться докладывать обо мне и, сунув ей за это одолжение шиллинг, тоже поспешил выскользнуть из дома.
После сытного обеда Поплетон иногда предлагал заняться легкими танцами или просил помочь ему перетащить из одного угла зала в другой тяжелое пианино, – вообще сделать что-нибудь такое, чего не полагается делать при переполненном желудке.
Он был неистощим на придумывания разных «забав», «игр» и «развлечений». Стоило вам засесть в уютный уголок, чтобы побеседовать с добрым приятелем или с хорошенькой и неглупой дамочкой, как он подбегал с предложением: «Идите играть в литературную последовательность», и невзирая на ваше сопротивление, тащил вас к столу, клал перед вами лист бумаги и карандаш и требовал, чтобы вы сделали описание вашей любимой литературной героини. И все это выходило у него так просто и наивно, что сердиться на него, в сущности, не было никакой возможности.
Стараясь чем-нибудь услужить каждому, он постоянно вызывался провожать пожилых дам на поезд и не покидал их до того мгновения, пока поезд не трогался и он ничем больше не мог быть полезным даме. Потом оказывалось, что он усадил ее как раз в вагон для курящих, где ей приходилось оставаться до первой остановки и благодаря этому пострадать весь путь от невыносимой головной боли и жестокого кашля. Не менее охотно он играл с детьми, причем так усердно и натурально изображал «диких зверей», что надолго нагонял на мелюзгу неподдельный ужас.
Что касается доброты и чистоты его намерений, то в этом трудно было подыскать ему равного. Так, например, когда он посещал больных, то непременно приносил им какое-нибудь лакомство, от которого больным становилось еще хуже.
Он очень любил участвовать в свадьбах. Однажды ему удалось так ловко составить программу свадебного поезда, что невеста явилась в церковь утром вместо вечера, и это привело к тому, что весь день, назначенный для радости и ликования, был испорчен. А в другой раз он то же самое проделал с женихом. Словом, он вечно все перепутывал и портил, зато первый сознавался в своих ошибках, с полной искренностью ужасался им и раскаивался в них.
На похоронах он обыкновенно утешал горюющих ближних покойного указанием на то, что он теперь избавлен от всяких страданий и что, наверное, скоро и они увидятся с ним в лучшем мире.
Но самым главным его наслаждением было вмешиваться в ссоры.
На целые десять миль вокруг не было ссоры, в которой он не принимал бы деятельного участия. Начинал он обыкновенно с роли доброго посредника, а кончал тем, что благодаря его посредничеству простая ссора переходила в непримиримую вражду.
Будь он литератором или дипломатом, его удивительная способность вмешиваться в чужие дела могла бы увенчать его лаврами, но в качестве обыкновенного человека он благодаря этой способности доставлял только одни неприятности другим и самому себе и заслужил прозвище «всеобщего благодетеля», хотя, разумеется, в кавычках.
VIII. СИЛА ПРИВЫЧКИ
Это было во время одного из моих переездов из Северной Америки в Англию. Мы сидели втроем в курительной каюте парохода «Александра»: я, один из моих лондонских приятелей и американец, редактор-издатель одного из многочисленных нью-йоркских воскресных листков.
Мой приятель и я рассуждали о силе привычки, а американец молча слушал нашу беседу, потягивая пиво.
– Поработав над собою известное время, человек твердо усваивает ту или другую привычку и остается верен ей всю жизнь, – говорил между прочим мой приятель. – Вода такой же приятный напиток, как и шампанское, если привыкнуть к ней. Вообще, к чему привыкнешь, все будет казаться приятным. Да вот, например, эти сигары… Кстати, не желаете ли попробовать? – и он придвинул ко мне ящик с сигарами, один вид которых возбуждал у меня тошноту.
– Благодарю, – сказал я, – я дал себе слово не курить во время этого переезда.
– Не пугайтесь! – со смехом успокаивал он меня. – Я это только так, для примера. Я знаю, что вы не станете курить моих сигар и что вы прохворали бы целую неделю, если бы решились на такой подвиг. Но я сам, как вы знаете, курю их постоянно и очень ими доволен, потому что привык к ним. Раньше, несколько лет назад, когда я был еще молод, мне казалось, что я не могу курить никаких сигар, кроме дорогих гаванских. Заметив, наконец, что можно разориться на этих сигарах, я решил обходиться более дешевым сортом. Дело было в Бельгии, и один из моих тамошних знакомых посоветовал мне брать сигары местного производства. Я попробовал одну, и она показалась мне свернутой из капустного листа, обмакнутого в гуано, зато сотня таких сигар стоила всего три пенни, и я заставил себя вообразить, что вкус их нисколько не хуже вкуса гаванских; приобрел сразу сотню и принялся за них скрепя сердце. Когда мне делалось от них очень скверно, я утешал себя мыслью, что ведь и гаванские сигары вызывали у меня тошноту, головокружение и другие неприятные состояния. И, как видите, в конце концов, я так освоился с этими «капустниками», что всякий другой сорт, не исключая и самого высшего, кажется мне противным.



