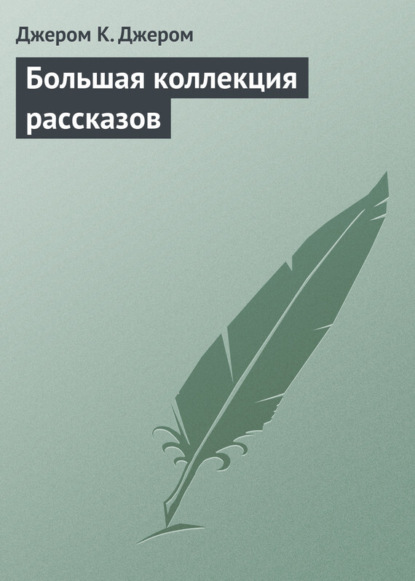 Полная версия
Полная версияБольшая коллекция рассказов

ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ
БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РАССКАЗОВ
РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ
– Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, – сказала светская дама.
– Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, – заметил второстепенный поэт.
– Очень любезно с вашей стороны говорить так, – отвечала она. – Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо.
– Я всегда говорил, что меня, в сущности, не понимают, – возразил поэт.
– Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт, – заметила студентка. – Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться.
– Или от различных поклонников к той же особе, – предложил философ. – Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос: принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае. Написал ли бы одной и той же женщине один: «Моя королева», а другой «Моя милашка», или она для всех влюбленных была бы только сама собой.
– Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания? – предложил я светской даме.
– А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей? – спросила она. – Те, чьих писем я бы не включила в сборник, никогда бы мне не простили. Так всегда бывает, если кого забудешь пригласить на похороны: каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его.
– Первое любовное письмо я написал, когда мне было шестнадцать лет, – сказал поэт. – Ее звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его, но не знал, сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо нее на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья.
– Вопроса тут не может быть, – сказала студентка рассеянно, – конечно, лучший момент – при выходе из церкви. Тут все толпятся, и – извините – в руке молитвенник…
– Мне не пришлось решать, – продолжал поэт. – В четверг ее место оказалось занято краснолицей девицей, ответившей на мой вопросительный взгляд идиотским смехом, а в воскресенье я напрасно искал ее по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал ее. Я оставил письмо, написанное к ней, на своем пюпитре и со временем забыл о нем. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить ее, как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечел его и остался доволен. Но тут случайно, в ту минуту, как я собирался запечатать его, я перевернул свой пюпитр, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, писанное мною семь лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же; но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее, с большей художественной простотой.
– В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он ее любит? Все прочее только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в «Полном и точном описании от нашего специального корреспондента», развитом из рейтеровской телеграммы в три строчки.
– Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию «Ромео и Джульетты» в двух словах:
Сильно друг друга любилиИ жизнь вместе кончить решили.– Услыхать, что тебя любят, – это только начало теоремы, так сказать, изложение предварительных условий, – заметила студентка.
– Или эпиграф в начале поэмы, – вторила ей старая дева.
– Интерес в доказательстве: почему он меня любит, – продолжала студентка.
– Я однажды предложила этот вопрос одному человеку, – сказала светская дама. – Он ответил, что это происходит помимо его воли. Мне такой опыт показался ужасно глупым, вроде того, что вам отвечает горничная, когда разобьет, например, ваш любимый чайник. Теперь же мне кажется, что ответ был не глупее всякого другого.
– Более того, – пояснил философ, – это единственное объяснение.
– Хорошо было бы, если бы этот вопрос можно было предлагать людям, не обижая их, – сказал поэт. – Мне так часто хочется задать его. Почему красавицы, богатые наследницы выбирают себе в мужья незаметных мужчин, третирующих их? Почему старые холостяки, вообще говоря, – симпатичные, добросердечные люди, а старые девы, по крайней мере, многие из них, – такие кроткие и милые?
– Может быть, – высказала свое предположение старая дева, – потому что… – Но тут она запнулась.
– Прошу вас, продолжайте, – закончил философ. – Мне так интересно выслушать ваше мнение.
– Нет, я не хотела сказать ничего особенного, – отнекивалась старая дева. – Я забыла…
– Если бы только можно было получать правдивые ответы, сколько света они пролили бы на скрытую половину жизни! – сказал поэт.
– Мне кажется, что любовь более всего прочего выставляется напоказ, – сказал философ. – Она опошляется. Ежегодно тысячи театральных пьес, повестей, поэм и этюдов разрывают занавес храма любви и влекут ее обнаженную на рыночную площадь на позорище скалящей зубы толпы. В миллионе коротких рассказов, то комических, то серьезных, она трактуется более или менее бесцеремонно, более или менее понятно, мимоходом, на лету, с насмешкой. Ей не оставляется ни тени самоуважения. Ее превращают в центральную фигуру всякого фарса, поют о ней и изображают в танцах в каждом мюзик-холле; ее приветствует неистовый крик зрителей с галерок, над ней громко хохочет партер. Это расхожая монета каждого сатирического журнала. Мог бы при подобных угрозах какой угодно божок – будь то сам Мумбо-Джумбо, – не сбежать от своих поклонников? Все ласкательные имена превратились в ходячие выражения, все ласки опошлились на подмостках. При каждом книжном выражении, которое мы произносим, мы сейчас же вспоминаем сто пародий на него. Нет такого положения, которое не было бы заранее испорчено американскими юмористами.
– Не раз мне приходилось присутствовать на пародиях Гамлета, – сказал поэт, – но пьеса продолжает интересовать меня. Помню я одну свою пешеходную экскурсию по Баварии. Местами по дороге там попадаются распятия, не имеющие в себе ничего особенного. Все они изготовлены механическим способом одной фирмой; но проходящие крестьяне с благоговением преклоняются перед Христом. Можно унизить только то, что действительно достойно презрения.
– Патриотизм – великая добродетель, а джингоисты сделали его смешным, – возразил философ.
– Напротив, они научили нас различать истинное от фальшивого, – сказал поэт. – Так и с любовью. Чем больше она обездушивается, выставляется на посмешище, служит предметом спекуляций, тем менее является желание выказывать ее, – «быть влюбленным в любовь», как выражался про себя Гейне.
– Прирожденна ли нам необходимость любить, – спросила молодая девушка, – или мы научаемся ей, потому что такова мода? Постепенно свыкаемся с нею, подобно тому как мальчик свыкается с привычкой курить, потому что все другие мальчики курят, и мы не хотим стоять особняком?
– Большинство женщин и мужчин не способны любить, – сказал поэт. – У некоторых это чисто животная страсть, у других – тихая привязанность.
– Мы разговариваем о любви, будто это вполне известная величина, – заметил философ. – В конце концов, сказать, что человек полюбил – все равно, будто сказать про него, что он рисует или играет на скрипке: это не дает нам ровно никакого объяснения, пока мы не увидим образцов его таланта. Слыша разговор на тему о любви, можно вынести впечатление, что любовь Данте и какого-нибудь светского молодого человека, Клеопатры и Жорж Санд – совершенно одно и то же.
– Это было предметом вечного огорчения для бедной Сюзанны, – заговорила светская дама; – она никогда не могла убедиться, любит ли ее Джим в действительности. И это очень грустно, так как я убеждена, что он по-своему был привязан к ней. Но он не мог делать многого, что она требовала от него: она была так романтична. Он пытался подладиться под ее тон. Он ходил смотреть все поэтические пьесы и изучал их. Но у него не было такой жилки, и он от природы был неловок. Он влетал в комнату и бросался перед ней на колени, не замечая ее собачки, так что вместо того, чтобы излить свою душу перед Сюзанной, ему приходилось вставать с поспешным: «Ах, извините! Надеюсь, ей не больно, бедняжке». И этого было, конечно, достаточно, чтобы вывести Сюзанну из себя.
– Молодые девушки так неблагоразумны, – заметила старая дева. – Они бегут за тем, что блестит, а золото замечают только тогда, когда уже поздно. Сначала он все – глаза, но сердца нет.
– Я знал девушку, – вступил я в разговор – или, скорее, молодую женщину, которую вылечили от ее безумства гомеопатическим методом. Ее сильно тревожило, что муж перестал ухаживать за нею.
– Это печально, – заметила старая дева. – Иногда вина в том женщины, иногда мужчины, а чаще виноваты оба. Что стоит не забывать маленькие проявления внимания, ласковые слова, – все эти мелочи, имеющие такое значение для любящих и так скрашивающие жизнь?
– В основании всего на свете лежит некоторый здравый смысл, – сказал я. – Секрет жизни в том, чтобы не отклоняться от него ни в ту, ни в другую сторону. Он был самым великолепным женихом, не знавшим счастья, когда ее глаза не смотрели на него; но не прошло и года с их замужества, как она с изумлением увидела, что он может быть счастлив, не сидя рядом с ней, и что он старается понравиться другим женщинам. Он проводил целые вечера у себя в клубе, иногда уходил на одинокую прогулку, по временам запирался у себя в кабинете. Дошло до того, что однажды он ясно выразил намерение уехать на неделю на рыбалку. Она не жаловалась – по крайней мере, не жаловалась ему в лицо.
– Вот это была с ее стороны глупость, – бросила студентка. – Молчание в таких случаях – ошибка. Противная сторона, не зная, что с вами – когда вы таите про себя свою досаду, – делается с каждым днем неприятнее.
– Она делилась своими горестями с подругой, – объяснил я.
– Как я не люблю людей, поступающих так, – сказала светская дама. – Эмилия ни за что не хотела заговорить с Джорджем. Она приходила ко мне и жаловалась на него, точно я была за него ответственна; а ведь я даже не мать ему. После нее являлся Джордж, и мне приходилось выслушивать все снова, но уже с его точки зрения. Мне все это, наконец, так надоело, что я решила положить конец излияниям.
– И преуспели в своем намерении? – поинтересовалась старая дева.
– Я узнала, что Джордж придет однажды вечером, и попросила Эмилию подождать в зимнем саду, – рассказала светская дама. – Она думала, что я дала ему несколько хороших советов, а я вместо того выразила ему свою симпатию и ободрила его, чтоб он поделился со мной всем, что у него на душе. Он исполнил мое желание, и это так взбесило Эмилию, что она выбежала и высказала все, что думала о нем. Я их потом оставила наедине. Им обоим это пошло впрок, и мне тоже.
– В моем же случае дело кончилось совсем иначе, – сказал я. – Ее подруга рассказала ему, что происходит. Она объяснила ему, как его небрежное отношение и забывчивость постепенно подтачивали привязанность жены к нему. Он стал обсуждать с ней этот вопрос.
«Но влюбленный и муж не одно и то же, – возразил он. – Положение совершенно иное. Вы бежите за человеком, которого хотели поймать, но раз вы догнали его, вы умеряете шаг и идете спокойно с ним, переставши окликать его и махать ему платком».
Их общий друг представлял вопрос с другой стороны.
«Вы должны сохранять то, что получили, – говорила подруга, – иначе оно ускользнет от вас. Известное поведение и манера держать себя заставили милую девушку обратить на вас внимание; являясь иным, чем вы были, как вы можете ожидать, чтобы она сохранила свое мнение о вас?»
– Но вы полагаете, что мне следовало бы и говорить и держать себя, став ее мужем, так же как тогда, когда я был ее женихом?
– Именно так, – отвечала подруга. – Отчего же нет?
– Мне это кажется недоразумением, – проговорил он.
– Попытайтесь и посмотрите, что будет, – сказала подруга.
– Хорошо, попытаюсь, – согласился он и, отправившись домой, принялся за дело.
– Что же оказалось, поздно? – спросила старая дева. – Или они опять сошлись?
– В продолжение месяца они проводили вместе целые сутки, – ответил я. – А потом жена намекнула, что ей доставило бы удовольствие провести вечерок вне дома.
Утром, когда она причесывалась, он не отходил от нее; начинал целовать ее волосы и портил ей прическу. За обедом он держал ее руку под столом и настаивал, что он станет кормить ее с вилки. До свадьбы он позволял себе подобную вещь раз или два на пикниках, и впоследствии, когда он, сидя за столом против нее, вскрывал письма, она укоризненно напоминала ему о том. Теперь он целый день не отходил от нее; ей не удавалось приняться за книгу; он начинал читать ей вслух, обыкновенно поэмы Браунинга или переводы из Гете. Он читал вслух плохо, но в те дни, когда он за ней ухаживал, она выразила свое удовольствие на его попытку, и теперь он, в свою очередь, напомнил ей об этом. Он предполагал, что если играть в игру, то и жена должна принимать в ней участие. Если он обязан ликовать, то и она должна отвечать ему радостным блеянием. Он объяснял, что они останутся влюбленными до конца жизни, и она не находила логического довода, чтобы ответить ему. Когда она собиралась писать письмо, он выхватывал бумагу из-под милой ручки, придерживавшей ее, и, конечно, размазывал чернила. Если он не подавал ей иголок и булавок, поместившись у ее ног, то покачивался, сидя на ручке ее кресла, и порой, не удержавшись, падал на нее. Когда она шла за покупками, он сопровождал ее и играл смешную роль у портнихи. В обществе он не обращал внимания ни на кого, кроме нее, и обижался, если она говорила с кем-нибудь помимо него. Правда, они не часто бывали где-либо в гостях. От большинства приглашений он отказывался и за себя и за нее, напоминая ей, как некогда она считала вечер, проведенный наедине с ним, за лучшее из удовольствий. Он называл ее смешными именами, лепетал с ней по-детски, и раз десять на дню ей приходилось поправлять свою прическу. В конце месяца, как я уже сказал, она сама предложила маленький перерыв в нежностях.
– Будь я на их месте, я бы потребовала развод. Я бы возненавидела его на весь остаток жизни, – вставила слово студентка.
– Только за то, что он постарался сделать вам приятное? – удивился я.
– За то, что он мне доказал, как я была глупа, нуждаясь в его любви, – возразила она.
– Вообще человека легко поставить в смешное положение, поймав его на слове, – изрек философ.
– Особенно женщин, – подтвердил поэт.
– Я спрашиваю себя, действительно ли между мужчинами и женщинами существует такая разница, как мы думаем? – заговорил философ. – Та, которая существует, не представляет ли из себя скорее продукт цивилизации, чем природное свойство? Не выработана ли она воспитанием, а вовсе не инстинктом?
– Отрицая разницу между женщиной и мужчиной, вы лишаете жизнь половины ее поэзии, – заметил поэт.
– Поэзия создана для людей, а не люди для поэзии, – возразил философ. – Мне кажется, разница, о которой вы говорите, представляет из себя «золотое дно» поэтов. Так, например, газеты всегда стоят за войну. Это дает им материал для разглагольствований и на бирже не остается без влияния. Чтобы убедиться в первоначальных намерениях природы, самое надежное – наблюдать наших родственников, то бишь животных. И здесь мы не видим основной разницы – разница только в величине.
– Я согласна с вами, – сказала студентка. – Когда в мужчине проснулась смекалка, то он увидел всю пользу, какую может извлечь, пользуясь превосходством своей грубой силы, чтобы сделать из женщины рабу. В других же отношениях она, без сомнения, стоит выше его.
– По женской логике, равенство полов всегда значит превосходство женщины, – заметил я.
– Это очень любопытно, – сказал философ. – По вашим словам выходит, что женщина никогда не может быть логичной.
– А разве все мужчины логичны? – спросила студентка.
* * *– Женщину заставляет страдать преувеличение собственной ценности, – сказал философ. – Это кружит ей голову.
– Следовательно, вы признаете, что у нее есть голова? – спросила студентка.
– Я всегда был того мнения, что природа намеревалась снабдить ее этой частью тела, – ответил философ, – только поклонники всегда представляют женщину безмозглой.
– Почему у умной девушки волосы всегда прямые? – спросила светская дама.
– Потому что она не завивает их, – усмехнулась студентка.
– Мне это никогда не приходило в голову, – проговорила светская дама.
– Это надо заметить в связи с тем, что мы мало что слышим о женах умных людей. А когда приходится слышать, как, например, о жене Карлейля, то, кажется, лучше бы и не слыхать.
– Когда я был моложе, я много раздумывал о женитьбе. Молодые люди вообще часто думают об этом. «Жена моя, – рассуждал я, – должна быть умной женщиной». Замечательно: из всех женщин, которых я любил, не было ни одной выдающейся по своему уму. Конечно, присутствующие исключаются.
– Почему в самом серьезном для нашей жизни – женитьбе – серьезные соображения совсем не принимаются во внимание? – со вздохом проговорил философ. – Подбородок с ямочкой может – и очень часто – обеспечить девушке лучшего из мужей; между тем как на нравственные достоинства и ум, соединенные в одной личности, нельзя возлагать надежды в смысле приобретения хотя бы плохого супруга.
– Мне кажется, объяснить это можно тем, что в самом естественном вопросе нашей жизни – браке – существенную роль играют наши природные инстинкты. В браке – какими риторическими цветами ни украшайте голый факт – проявляется чисто животная сторона нашего существа: мужчину к нему влекут его примитивные желания; женщину – прирожденное стремление к материнству.
Тонкие белые руки старой девы задрожали на ее коленях.
– Зачем пытаться объяснить все прекрасные вещи в мире? – сказала она, говоря с не свойственным ей оживлением. – Краснеющий юноша, застенчивый, поклоняющийся предмету своего обожания, как какой-нибудь мистический святой; молодая девушка, вся зачарованная мечтами! Они не думают ни о чем, кроме как друг о друге.
– Исследование таинственных истоков горного потока не мешает нам прислушиваться к его журчанью в долине, – объяснил философ. – Скрытые законы нашего бытия питают каждый лист нашей жизни, как сок, протекающий по дереву. Развивающаяся почка и созревший плод – только изменения внешней формы этого сока.
– Я ненавижу добираться до корня вещей, – молвила светская дама. – Покойный папа был просто помешан на этом. Он нам рассказывал о происхождении устриц, когда мы их раскрывали. Мама никогда не могла притронуться к ним после этого. Или за десертом у него с дядей Павлом начинался разговор, какая кровь – бычья или свиная – лучше для удобрения столового винограда? Помню, как за год перед тем, когда Эмма начала выезжать, пал ее любимый пони. Никогда она ни до, ни после ни о чем так не горевала, как о нем. Она спросила папу, не позволит ли он похоронить его в саду. Ей хотелось иногда приходить поплакать на его могилу. Папа очень мило отнесся к ее желанию и погладил ее руку.
– Что же, милочка, мы его закопаем у новой малиновой гряды.
Как раз в эту минуту к нам подошел старик Пардо, наш главный садовник, и, дотрагиваясь до шляпы, сказал:
– Вот я все хочу спросить мисс Эмму, не положить ли нам бедную лошадку под одним из персиковых деревьев. Они у нас что-то захирели в последнее время.
Он говорил, что это красивое местечко и что он поставит там камень вроде памятника. Эмме в эту минуту было все равно, где они положат ее любимца, и мы предоставили отцу и садовнику обсуждение вопроса. Не помню, на чем решили; знаю только, что ни одна из нас в продолжение двух лет не ела ни малины, ни персиков.
– Всему свое время, – сказал философ. – Читая, как поэт воспевает румяные щечки своей возлюбленной, мы, так же как и он, не спрашиваем, откуда берется окраска крови и сколько она сохраняется. Тем не менее вопрос интересный.
– Мы, мужчины и женщины, – любимцы природы, – ответил поэт. – Мы – ее надежда. Ради нас она отрешилась от многих из своих убеждений, говоря себе, что они устарели. Она отпустила нас от себя в чужую школу, где смеются над всеми ее понятиями… Мы усвоили новые, странные взгляды, возбуждающие недоумение старушки. Однако когда мы возвращаемся домой, интересно отметить, как мы мало отличаемся от тех ее детей, которые не расставались с ней. Запас наших слов выработался и расширился, но лицом к лицу с реальностью существования он остался неизменным. Наши потребности усложнились: обеды с десятью переменами кушаний и всем прочим заменили пригоршню фруктов или орехов, собранных без труда, мясо откормленного быка и масса хлопот для его приготовления – простые вегетарианские обеды, не требующие затраты времени. Но подвинулись ли мы при этом много вперед против нашего маленького брата, который, проглотив сочного червячка au naturel, взлетает на первую попавшуюся ветку и, совершая легкое пищеварение, славит в своей песенке Бога? Квадратный кирпичный ящик, где мы движемся, загроможденный деревянной рухлядью, увешанный тряпками и полосами пестрой бумаги, набитый всякой всячиной из плавленого кремня и формованной глины, заступил место дешевой, удобной пещеры. Мы одеваемся кожами других животных, вместо того чтобы дозволить нашей собственной коже развиться в естественную защиту. Мы обвешиваем себя кусками камня и металлов, но подо всем этим остаемся двуногими животными, и вместе с другими боремся за жизнь и кусок хлеба. Мы можем видеть повторение наших трагедий и комедий в каждой травке. Существа в шерсти и перьях – мы сами в миниатюре.
– Да, я знаю; я часто слышу это, – сказала светская дама. – Только это пустяки. Могу доказать вам.
– Это не трудно, – заметил философ. – Пустяки – обратная сторона медали, запутанные концы нити, которую прядет мудрость.
– В нашем колледже была одна мисс Эскью, – сказала студентка. – Она соглашалась со всеми: с Марксом она была социалисткой; с Карлейлем – сторонницей благожелательного деспотизма; со Спинозой – материалисткой; с Ньютоном – фанатичкой. Перед ее выходом из колледжа у меня был продолжительный разговор с ней, и я пыталась уразуметь ее. Она была девушка интересная.
«Мне кажется, – сказала она мне, – я могла бы сделать выбор между ними, если бы они отвечали друг другу. Но они этого не делают. Они не хотят слушать друг друга. Каждый только повторяет то, что касается его одного».
– Ответа никогда не бывает, – объяснил философ. – Зерно каждого искреннего убеждения – истина. В жизни одни только вопросы, а решение их в «ближайшем номере».
– Презабавная была она, – продолжала молодая девушка, – мы, бывало, смеялись над ней.
– И вполне справедливо, – согласился философ.
– Это все равно, что ходить за покупками, – сказала старая дева.
– Ходить за покупками?! – воскликнула студентка.
Старая дева покраснела.
– Да, мне так кажется… Конечно, это звучит странно. Мне пришло в голову такое сходство…
– Вы хотите сказать, что выбор – вообще трудная вещь? – помог я ей.
– Вот именно, – ответила она. – Вам показывают такую массу всевозможных вещей, что вы совершенно теряете всякую способность рассуждать. По крайней мере, со мной это случается. Я начинаю досадовать на себя. Это ужасная бесхарактерность с моей стороны, но ничего не поделаешь. Хотя бы, например, этот костюм, который теперь на мне…
– Очень мил сам по себе, – заметила светская дама. – Я любовалась им, хотя, откровенно говоря, темные цвета больше идут к вам.
– Вы правы, – согласилась старая дева, – я сама его ненавижу. Только, знаете, как это случилось? Я чуть не все утро проходила по магазинам. Устала страшно. И вот…
Она вдруг оборвала себя и извинилась:
– Простите; я прервала разговор.
– Я благодарен вам за то, что вы нам высказали, – сказал философ. – Мне это кажется объяснением.
– Чего? – спросила студентка.
– Того, как многие из нас составили себе образ мыслей. Мы не любим выходить из лавки с пустыми руками, – ответил философ и затем обратился к светской даме:
– Вы хотели объяснить, доказать…
– Что я говорил глупости, – напомнил поэт. – И если вам не неприятно…

