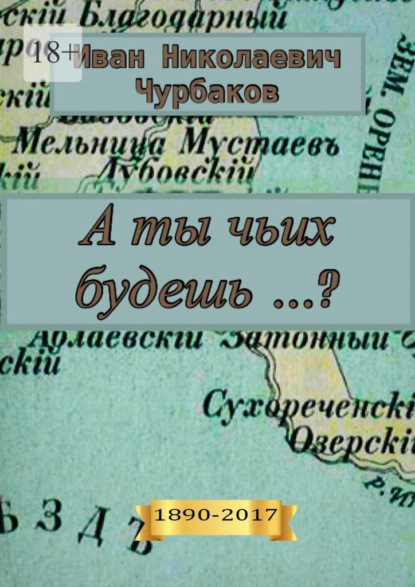
Полная версия:
А ты чьих будешь…?
– Но Вы меня совсем не знаете, – перебил гостя хозяин.
– Мне достаточно того, что я смог увидеть и услышать. И потому я прошу тебя дать согласие на сотрудничество со мной. Ну, вот скажи мне честно, легко ли тебе кормить семью? – с вопроса начал аргументировать взаимовыгодность предлагаемого сотрудничества. И пока Никифор Елисеевич думал, как объективнее ответить на заданный вопрос, казак сам на него ответил: – Нет! У тебя, насколько правильно я понял, есть только клочок земли да руки. Ведь так? Вспахать землю ты нанимаешь кого-то. Косишь сено сам «литовкой», один. Со мной будет все по-другому. У меня и плуги, и косилки, и быки, и лошади. Если ты согласишься работать со мной, то от своего клочка земли сможешь отказаться. У меня земли на нас двоих хватит с гаком.
И вслед за этим Василий Тимофеевич обратился к Никифору с другим не менее резонным вопросом:
– Вот предстоящей зимой, чем ты будешь заниматься?
И вновь, пока хозяин думал что сказать, гость вновь за него сам ответил: – Ничем! А ведь можно и зимой зарабатывать деньги. Повторюсь: мне сейчас позарез нужен помощник. В данное время, кроме ухода за животными, я еще занимаюсь переработкой зерна. Сейчас на рынке в хорошей цене мука. А у меня ею переполнена мельница. Но продать ее один я не могу.
Никифор Елисеевич слушал гостя молча и мысленно соглашался со всеми его доводами. Для него «зимние каникулы» – пытка. Только поэтому, анализируя аргументы казака, он приходил к выводу, что надо быть чистым дураком, если отказаться от предложения сидящего против него человека. Однако, выбрав момент, он высказал свое сожаление:
– Но тогда нам с Варей нужно переезжать к вам на хутор. А вот для этого у нас пока нет возможности.
– А что за причина мешает вам это сделать?
– Секрета нет. У меня больная мать. И она жива, благодаря Варе. Один раз в неделю за ней приезжает мой брат Тимофей. И она ездит к ней и лечит ее.
– Это, конечно, важная причина, – согласился казак. – Помочь родителям – дело святое. От вас до них намного ближе, чем от нашего хутора. Но ты-то можешь со мной сотрудничать наездами. Коня для этой цели я тебе выделю. Если мы договоримся, то прямо сейчас поедем ко мне на моем фаэтоне, а вернешься ты домой на тарантасе и другом коне. Это будет твоим разъездным транспортом. И я предлагаю согласиться с моим предложением.
И еще: в случае согласия Варвары Ивановны, домой ты приедешь не сегодня, а через три – четыре дня. Так как уже завтра мы с тобой проедем на хутор Усов. Это в девяти километрах от нашего хутора Чеснокова. А загрузившись там мукою, мы отправимся на Бузулукский рынок. Как вы смотрите на мои предложения? – задал вопрос Василий Тимофеевич, обводя взглядом супругов.
– Что ты скажешь на это, Варя? – обратился Никифор к супруге, не отвечая на заданный вопрос.
– Очень заманчиво! И я не против такого предложения. А ты?
– Да и мне кажется, что на это можно согласиться. Но меня беспокоит одно – это твои предстоящие роды.
– А вот за это тебе не стоит волноваться. Я ведь повитуха. Да и роды не первые. В крайнем случае, я пошлю девочек за Еленой. До нее – три шага от нашего дома. Так что, если хочешь, то поезжай с Василием Тимофеевичем спокойно. Я тебя отпускаю.
– Очень правильное решение, – произнес казак, не скрывая удовлетворения. – Тогда быстренько собирайся, Никифор Елисеевич. Сходи, приготовь для скота корм и воду, и двинемся в путь.
Знакомство с новым хутором
«Все земельные и рыбные угодья в Уральском казачьем войске вплоть до советской власти оставались общинной собственностью, и никто не мог ни купить, ни продать и пяди земли, лесов и вод, находившихся в неделимом пользовании казаков. Не случайно казаки называли свою землю „вольной землей“. Лишь „дворовые места“ имели владельцев, да и то до тех пор, пока на них есть строения».
Н.Г.Чесноков.
Солнечный осенний день уже близился к концу, когда впереди на белоснежном фоне показались серые мазанки.
– Что там за хутор? – обратился Никифор Елисеевич к рядом сидящему на облучке и управляющему конем Василию Тимофеевичу с вопросом.
– Это Жукалин. А сразу же за ним, за глубокой лощиной, начнется наш хутор Чесноков.
Конь, вероятно, признав знакомую местность и предвкушая окончание поездки, без понуканий прибавлял скорость. Но перед пограничной меж хуторами лощиной вознице пришлось натянуть вожжи и перевести его на шаг.
– Весной, наверное, здесь не проедешь? – высказал свое предположение Никифор.
– Да. Но это временно. Неделю, две. Не больше, – произнес Василий Тимофеевич.
Преодолев подъем, казак легким коротким подергиванием вожжей перевел коня на транспортную скорость. Тот затрусил привычной рысью по хорошо заметной, накатанной колесами телег дороге. Слева от нее, на небольшом удалении от реки Ембулатовки, под разными углами к ней виднелись мазанки хуторян.
– К твоему сведению, Никифор Елисеевич, – продолжил казак повествование, – в конце хутора Чеснокова имеется еще одна, почти такая же лощина. И весной она тоже отгораживает нас от внешнего мира своими водами. Но с той лощиной мы начали вести борьбу. А точнее будет сказано, начали пользоваться ее услугами. Примерно в километре от хутора, выше по течению вешних вод, на одном узком месте, еще с покойным отцом мы насыпали плотину, то есть преградили путь вешним водам. Там образовался пруд. Правда, первой весной значительная часть нашего труда пошла насмарку. Тем не менее, благодаря предусмотрительно сооруженному отводу, основная часть воды со следующего года и поныне стала оставаться в искусственном водоеме на все лето.
А как это здорово! – удовлетворенно произнес казак. – Если раньше находящийся в степи скот приходилось гонять на водопой до хутора к берегу Ембулатовки, то с появлением пруда необходимость в этом отпала. А это и для животных хорошо и для пастуха прекрасно. За годы плотина повысилась и укрепилась высаженными вербами и ветлами. И теперь у нас имеется огромный пруд Мантык.
Услышав знакомое название местности, всю дорогу молчавшая Любаша невольно вновь вспомнила про своего любимого Василька.
– Пап! – обратилась вдруг, перебив отца, она с вопросом. – А мне, случайно, не было письма?
– Как же не было?! – спохватился отец. – Я просто на радостях совсем забыл сообщить тебе об этом. Прислал твой Василек тебе весточку.
Порадовав дочь, отец развернулся к рядом сидящему Никифору, чтобы продолжить прерванный разговор.
Впереди, по правую сторону дороги, в ста метрах от обрывистой излучины реки Ембулатовки, бросался в глаза бревенчатый, крытый железом дом, огороженный двухметровым деревянным забором. Приблизившись к нему, Василий Тимофеевич направил коня к вмонтированной в изгородь крытой калитке, а поравнявшись с нею, остановил его.
– Вот, Никифор Елисеевич, мы и добрались до нашего с Любашей жилища, – произнес хозяин, а потом, развернувшись к дочери, подал ей команду: – Ты, Любаша, иди готовь с Глашей ужин, а мы коня распряжем и скотину покормим.
Выждав, когда дочь скроется за калиткой, Василий Тимофеевич, развернул коня и, проехав до конца забора, подрулил тарантас к воротам хозяйственного двора. Сойдя с тарантаса, он обратился к гостю:
– Идем, Никифор Елисеевич. Смотри и запоминай, что и как открывается и закрывается. Теперь тебе это придется нередко делать.
Распахнув широкие деревянные ворота, хозяин, взяв коня под уздцы, провел его на положенное место. Никифор Елисеевич, закрыв въездные ворота и окинув беглым взглядом хозяйственный двор, подошел к коню, чтобы освободить его от сбруи. А хозяин, поняв намерения гостя, вновь про себя отметил: «Молодец!»
Подобно о казаке после осмотра конюшни и хозяйственного двора отозвался и Никифор. Ему у хозяина понравилось все: расположение построек и содержание в них имеющейся у него живности, стоящий в ряду, словно на линейке готовности, сельхозинвентарь: конная сенокосилка, грабли, плуги и лобогрейка и разных мастей телеги и сани. После увиденного, у Никифора Елисеевича появилось желание иметь все и в таком же количестве. А Василий Тимофеевич, словно читая его мысли, задал вопрос:
– Нравится?
– Все здорово!
– Знай, что это все теперь принадлежит и тебе!
Сумерки заметно сгущались. Учитывая это, Никифор Елисеевич предложил хозяину:
– Пока совсем не стемнело, давайте накормим вашу живность.
– Пожалуй, ты прав. Только давай по-быстрому переоденемся в рабочую одежду. Идем вот сюда! Сказав это, хозяин открыл дверь и вошел в кладовку. Чиркнув спичкой, он зажег фонарь «летучая мышь». От порядка в кладовке Никифор Елисеевич был тоже в восторге. Вдоль одной стены стояли лари с овсом и зерноотходами. На второй стене, на штырях, висели конские сбруи. А на третьей, торцевой, была закреплена увешанная рабочей одеждой длинная самодельная вешалка.
– Примерь-ка, Никифор Елисеевич, вот это обмундирование, – подал хозяин гостю не бывшие еще в употреблении рабочий костюм и фуфайку.
– А это моя персональная одежда.
Переодевшись, вдвоем без особого напряжения накормили они всех находившихся под крышей животных.
– Навоз уберем завтра утром. Это не к спеху! – остановил хозяин гостя, когда тот вознамерился накладывать его на тележку.
Вновь переодевшись в «парадную одежду» и закрыв на ночь хозяйственные постройки, через внутреннюю калитку вышли на передний двор. Теперь перед Никифором дом казака предстал во всей красе. С восхищением он рассматривал резные оконные наличники, входное на середине дома, крытое железом и тоже украшенное резными ветровыми досками крыльцо. Изумлен был гость и деревянными полами, и потолком сеней, в которые ввел его хозяин после внешнего осмотра дома. Там Любаша успела зажечь фонарь «летучая мышь». Благодаря его освещению, Никифор увидел впереди еще три двери.
– Если прямо пойдешь, – шутливым голосом ввел в курс дела гостя казак, – в чулан войдешь, налево свернешь – в горнице окажешься, но мы свернем направо – там кухня, где Любаша с Глашей покормят нас ужином.
Сидя за столом, за шипящим самоваром, Василий Тимофеевич продолжил повествование об историческом землепользовании казаков Лихачёвых на хуторе Чеснокове.
– Первым на хутор приехал мой дед и на облюбованном клочке земли сезонно работал один. Но годы шли. Дело деда продолжил мой отец. А когда мы с братьями подросли, семейный земельный клин был расширен до нынешних размеров. Скоро я тебе его покажу. С братьями мы легко выполняли работы на нем. А вот без них мне одному, повторюсь, очень трудно приходится управляться. Но сокращать унаследованные площади, честно признаюсь, очень жалко. Каждый клочок земли за десятилетия работы на нем стал родным. А сейчас, после встречи с тобой, у меня появилась уверенность, что сохранить потомственные границы земли мне удастся.
В качестве аванса
Не с показным, а с искренним усердием начал работать Никифор Елисеевич у казака Лихачёва буквально на следующий день. И мотивация его поступков была не эгоистичная. По выработанной привычке он проснулся ранним утром и, одевшись, вышел во двор. Слабый морозец. Утренние сумерки готовились передать свои полномочия очередному дню. На сером небе ни облачка. Звезды уже померкли, и лишь лунный диск одиноко украшал небосвод. Все это и абсолютное безветрие обещали хороший осенний день. «Дай, Господи, удачи во всех делах!» – успел подумать Никифор Елисеевич, обводя повторно изумленным взором территорию своего хозяина.
– Ты чего так рано поднялся? – услышал он голос подошедшего Василия Тимофеевича.
– Привычка, – ответил гость.
– Признаюсь, это и мое время ежедневного подъема.
– Так, может быть, и работать начнем прямо сейчас?
– Извини. Но лучше будет, если мы вначале позавтракаем. Ты же видел, что за вчерашний день в сарае из-за поездки накопилось много навоза. И хоть я обычно утром первым делом кормлю скот, а потом себя, но сегодня, по названной причине, нарушим традицию.
Но за самоваром не рассиживались, так как помнили о некормленных животных. День, как по заказу, начинался ясный и не очень морозный. Вновь облачившись в кладовке в рабочую одежду, принялись за дело. Накормили все поголовье быстро, а с уборкой навоза получилась задержка.
– Василий Тимофеевич! – обратился Никифор к хозяину.
– Что случилось? – поинтересовался тот.
– Мне кажется, что Вы просто издеваетесь над собой.
– Не понял.
– Зачем обвозить навоз вокруг длиннющего сарая, если можно вообще не возить?
– Опять я не понял тебя, Никифор.
– Я предлагаю пропилить в задней стене сарая три люка и через них выбрасывать навоз прямо на тележку. А там до кучи – рукой подать.
– А ведь это очень мудро. И быстрее, и намного легче, – обрадованно согласился хозяин.
Заработали гвоздодеры, ножовки, молотки. Через пару часов крышки пропиленных люков, работая на петлях, свободно открывались и надежно и плотно закрывались. А навоз из скотопомещения выбрасывался сразу же на зады.
И это была не последняя инициатива обретенного казаком помощника. Предложения от Никифора Елисеевича поступали неоднократно, и каждое было по-своему ценно. По его инициативе скопившийся многолетний за сараями навоз по первой пороше начали вывозить на паровое поле. На двух других земельных клиньях, после очередного снегопада, поперек склонов и перпендикулярно преобладающей розе ветров, с помощью придуманных опять же Никифором Елисеевичем дощатых «бабочек», в первую зиму совместного сотрудничества парами быков произвели двукратное снегозадержание. Эти зимние агромероприятия в последующие годы стали обязательными и окупались сторицей.
Плодородность полей казаков Лихачёвых и ранее отличалась от соседствующих земельных участков. Даже в неурожайные для 60 Российских губерний 1911 – 1912 годы казаки Лихачевы снимали с засеянных полей относительно неплохие урожаи. А благодаря обновленной Никифором Елисеевичем культуре земледелия и высеву семян в лучшие агротехнические сроки, и в 1921, неблагоприятном году, хлебная нива казака Лихачёва получилась на диво хуторянам урожайной.
Не меньшей добродетельностью с первых дней радовал своего неоценимого работника и Василий Тимофеевич. Никифор Елисеевич и Варвара Ивановна не переставали удивляться подаркам своего благодетеля. Щедрость казака Лихачёва была безграничной. Уже на первой неделе сотрудничества на полученные от продажи муки деньги в городе Бузулуке Василий Тимофеевич закупил, не объясняя для чего, двухметровые дубовые столбы. А когда доехали до развилки дорог, ведущих на хутора Стольников и Чесноков, он, остановив своего коня и подойдя к подъехавшему на быках с грузом Никифору, распорядился:
– Никифор Елисеевич, вези эти столбы домой. Весной начнешь городить ими свой двор. Ко мне приедешь, как управишься с домашними делами. В общем, сильно не торопись.
Но злоупотребить добросердечностью казака Никифор Елисеевич не мог. Уже на следующий день утром он собрался ехать на хутор Чесноков. И Варвара Ивановна не стала его задерживать. С хозяйством она без особого труда справлялась. Проблемы жизненные отсутствовали. Поэтому в знак благодарности за доброту Василия Тимофеевича, перед отъездом мужа, она высказала свою точку зрения:
– Мало ли, что он сказал. Мне кажется, что тебе надо сегодня ехать к нему. Дома-то дел особых для тебя нет. А там их, сам говоришь, непочатый край. Так что, езжай, Никиша. Да скажи ему за столбы еще и мое спасибо. Кроме того прямо попроси, чтобы на свои деньги он нам больше ничего не покупал. А то, как-то неудобно получается. Мне кажется, что он так продолжает платить за лечение Любаши.
Но казак Лихачёв категорически отклонил эту просьбу. А свою щедрость, не задумываясь, проаргументировал другими безапелляционными мотивами:
– Ты, Никифор Елисеевич, ничего не думай. Это тебе аванс за твою нынешнюю и будущую работу. – А потом спросил: – Или тебе тяжело у меня? Может быть, ты передумал мне помогать?
– Да ты что, Василий Тимофеевич?! – перейдя на «ты», чуть ли не с обидой отвечал Никифор. – Ты что, разве не видишь, с каким настроением я работаю?
– Вижу. Поэтому и помогаю тебе. И давай договоримся, что ты больше не будешь задавать мне вопросов, – заявил казак императивным тоном. – Я знаю, что делаю.
– Хорошо, – согласился Никифор. – Но разреши мне за каждый твой подарок говорить тебе три слова:
– Это какие же?
– Спасибо! Потом рассчитаюсь.
– Ну, говори, если так хочется, – согласился казак с улыбкой. На том и порешили.
А повторять эти три слова Никифору приходилось еще не раз. Буквально через неделю после первой поездки на двух подводах с Усовской мельницы они вновь повезли на Бузулукский рынок очередную партию муки. Ехать пришлось, как и прежде, на телегах, потому что после Покрова дня снега больше не добавилось. Удачно продав муку, Василий Тимофеевич задумал выдать своему помощнику очередной и более солидный «аванс». А начал он разговор на эту тему, как всегда, издалека.
– Как ты считаешь, Никифор Елисеевич, мы правильно будем делать, что из города будем ездить пустыми? – задал казак вопрос.
– Так это дураку понятно: нет. А что отсюда нам надо возить?
– Есть у меня одна мысль.
– Какая?
– Я знаю в городе артель, которая изготовляет сосновые срубы жилых домов. Ее бригада может даже поставить дом под крышу. Покупатель лишь должен доставить стройматериал к месту установки дома. А мы с тобой сможем до весны спокойно вывезти лес на дом-пятистенку.
– На какой дом? – искренне изложил свое недоумение Никифор. – У тебя их два. Ты что, еще один хочешь построить?
– Хочу! – решительно заявил казак и после непродолжительной паузы уточнил: – Для тебя.
– Да ты что? Это ж такие деньги!
– Что ты заладил? Деньги, деньги.… Как говорят: «Деньги – это же навоз. Нынче нету, а завтра – воз». Не вечно же жить тебе с семьею в глинобитной мазанке. Ведь неизвестно, сколько времени Варвара Ивановна будет нужна твоим родителям. Может быть, твои родители проживут еще десятки лет. Помни, что и дети твои подрастают. Поэтому сегодня начнем завозить стройматериалы для вашего дома.
– К твоему сведению, я родился в землянке. Потом мои родители построили себе на хуторе Чапурине глинобитную избу. В ней я и вырос. Честно признаюсь: до сего момента о собственном деревянном доме я никогда не думал и твое предложение для меня – большая неожиданность.
Василий Тимофеевич, не перебивая, выслушал откровенный ответ собеседника, а потом, улыбнувшись, произнес:
– Запомни, дорогой мой. То было у тебя в прошлом. А сегодня мы с тобой должны выбрать нужных размеров сруб и часть бревен увезти к месту установки твоей пятистенки. После этого разговора и нескольких минут обсуждения поднятого вопроса решили строить дом на старом подворье Грудновых, на хуторе Стольникове.
– Это еще, что придумали? – болезненно произнесла Варвара Ивановна, поздоровавшись с Василием Тимофеевичем и Никифором, глядя на телеги, груженные пронумерованными бревнами, остановившимися у избранного места складирования во дворе. – Ответьте, а эти бревна еще для чего?
На поставленный вопрос муж, словно провинившийся школьник, ответил с улыбкой:
– Это не я. Это вот Василий Тимофеевич решил нам деревянный дом построить. Извини.… Но что я мог поделать?
– Да не волнуйтесь Вы, Варвара Ивановна, – пришел на помощь Никифору казак. – Это для будущего вашего дома. Живы и здоровы будем, с Божьей помощью осенью справим новоселье.
Вот так на первом году сотрудничества с казаком Василием Тимофеевичем Лихачёвым Никифор Елисеевич Груднов на берегу безымянной речушки построил единственный на хуторе Стольникове бревенчатый, крытый железом дом с деревянными потолками и полами. «Это тебе, Варя. Ты заслужила жить в таком доме», – произнес Никифор на скромном новоселье, на Покров день, 14 октября 1910 года.
Я же вам доверила братишек…
1911 г. После знакомства с Василием Тимофеевичем Никифор Елисеевич очень редко бывал дома, хоть и был у него разъездной конь. В зимнее время, правда, случалось, что он «гостил» дома неделями, но с приходом весны он тоже неделями не навещал семью. И вся забота о хозяйстве практически лежала только на плечах Варвары Ивановны.
Но словно испытанием на прочность, для нее явился 1911 год. 14 апреля через ее большие муки семья Грудновых увеличилась, чуть ли не вдвое, у них появились на свет братья-близнецы: Иван и Никифор. «Это огромное счастье, что у нас есть Анюта и Маня! – думала Варвара Ивановна. – Что я сейчас делала бы без них? Трудно даже представить. Главное, Настенька под надежным присмотром!» В свои полтора года девочка уже свободно разговаривала. Но главной «головной болью» для семьи явилась ее чрезмерная шустрость. За ней только смотри да смотри. Просто ловит моменты, чтоб сбежать «в самоволку». Уже был случай, когда ее кое-как отыскали в степи за хутором. Благо, что, сотрудничая с Василием Тимофеевичем, Никифору Елисеевичу удалось загородить двор высоким сплошным забором. После первого побега Настеньки калитку стали держать постоянно закрытой. А открыть ее у крохи не хватало силенок. Поэтому большую часть времени маленькая непоседа теперь вынужденно проводила под пристроенным к забору навесом. Там в компании старших сестренок она увлеченно коротала время.
Но вот новая беда. После рождения близнецов девочка стала досаждать Варвару Ивановну еще своей чрезмерной заботой о братьях. Стоило одному из них заплакать, Настенька впереди матери бежала к их колыбели. «Он касу хоцет»! – моментально определяла она причину плача брата. И тут же бежала за ложкой.
Из-за «неуправки» Варвара Ивановна летом вынужденно увеличила нагрузку на старших девочек. Воспользовавшись спокойным характером кормилицы Зорьки, она научила Анюту с Маней доить ее. Правда, чтобы легче девочкам было носить молоко в дом, на дойку они ходили не с одним ведром, а с двумя. «Полведерка надоите, – инструктировала их мать, – отнесите его в дом. Только обязательно накройте молочко крышкой. А то коты его быстро учуют…».
И девочки, несмотря на свой возраст, не только внимательно слушали наставления матери, но и всегда строго их исполняли. Более того, после дойки они всегда превращали сырье в качественный продукт. Всякий раз они аккуратно переливали молоко из ведерок через марлевые цедилки в кубатки. И делом матери являлось только поставить их для кипячения в натопленную печь. Вот и получалось, что благодаря труду дочерей, у Варвары Ивановны появлялось дополнительное время для выполнения других более важных дел. Она спокойно навещала своих клиентов, зная, что Настенька и новорожденные мальчики находятся под надежным присмотром Анюты и Мани.
Но однажды в вечернее время, когда Варвару Ивановну срочно пригласили к больному, девочки передоверили братьев-близнецов Настеньке. Без матери, почувствовав себя по сравнению с младшенькой сестренкой взрослыми, впустив во двор возвратившуюся с пастбища Зорьку, они сделали Настеньке наставление:
– Если Ванечка с Никишей заплачут, ты с ними поговори, – распорядилась Анютка.
– А если и после этого они будут плакать, прибежишь к нам! – не удержалась проявить себя Маня. – Поняла?
– Поняла, – тоже по-взрослому и даже со вздохом, и некоторой обидой произнесла, опустив глаза, Настенька. Мол, что тут понимать-то?
Взяв по ведерку, девочки отправились на дойку. А минуты спустя, словно подслушав разговор сестер, подал свой голос один из близняшек. Настенька мгновенно отреагировала на плач братишки. Пододвинув к полатям табурет и забравшись на него, она наклонилась к проснувшемуся братику.
– Ну, ты цё плацесь, маленький? – изрекла девочка, копируя «повзрослевших» сестренок. – Есть хотись? Стясь я тя покольмлю.
Сбегав за кусочком хлеба, она потыкала им плачущему братику в рот. Но он после такой «кормежки» не только не успокоился, а стал кричать еще сильнее. Своим надрывным воплем мальчик разбудил спящего рядом братика, и они стали горланить наперебой.
Не выдержав выступления дуэта, девочка вспомнила угрозу сестренок в адрес «плачущих» кукол: «Не замолчишь, я тебе рот зашью и глазки!» Настенька видела утром, как мама зашивала иголкой дырочку в папиных рабочих брюках. Запомнила она и то, что мама ту иголку с оставшейся ниткой, торопясь, оставила в оконной занавеске. Пододвинув к окну табурет, девочка вынула ту иголку с ниткой из занавески и, вооружившись ею, стала взбираться на полати к кричащим братикам.
Благо, что в этот момент Маня принесла в дом первую порцию выдоенного у Зорьки молока и, услышав крики братишек, бегом забежала в комнату. Будь по-другому, Настенька могла бы совершить непредсказуемое.
Когда старшие сестренки с целью покритиковать Настеньку за поступок рассказали об этом маме, та чуть ума не лишилась. Но рассудок возобладал над чувствами, и она только упрекнула «глупеньких»: «Я же вам доверила братишек». А в конце непродолжительной беседы строго внушила: «Когда меня нет дома, с Настеньки глаз не спускайте!»



