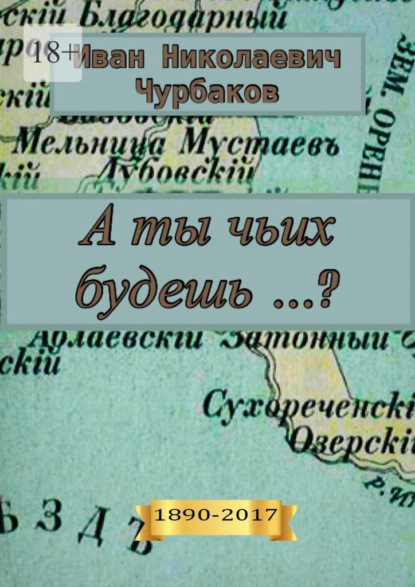
Полная версия:
А ты чьих будешь…?
Один Бог знает, что у нас впереди…
С прошествием лет ни казак Лихачёв Василий Тимофеевич, ни Никифор Елисеевич Груднов ни разу не раскаялись в спешном объединении. Все у них ладилось и шло, как по написанному сценарию. Буквально все, что они совместно планировали, в намеченный срок становилось реальностью. А после выдачи замуж Любаши, Никифор стал для Василия Тимофеевича, словно родным братом.
Большой радостью отозвалось в их душах включение в производство подросших у Никифора Елисеевича Анюты и Мани, так как домработницу Глашу после свадьбы Василек и Любаша увезли с собой. С весны 1916 года девочки начали приезжать на хутор Чесноков не на прогулку, а чтобы в доме Василия Тимофеевича, как они сами шутили, работать «поварешками». Благодаря этому, Василию Тимофеевичу и Никифору не нужно было думать о приготовлении пищи. Несмотря на юный возраст, девочки неплохо справлялись с первыми в их жизни ответственными обязанностями.
– Чувствуется школа Варвары Ивановны, – неоднократно отзывался Василий Тимофеевич, пробуя приготовленные «поварешками» кушанья. И оценка труда их матери была заслуженной, так как, несмотря на врачевание, она находила силы и время для подготовки девочек к жизни. Все ее дочери, выходя замуж, искусно готовили пищу, шили на швейной машинке не только летнюю, но и зимнюю одежду, вязали носки и шали – были мастерицами на все руки.
На Стольников Анюта с Маней возвращались после завершения у казака Лихачёва всех подготовительных к зимовке работ. Провожая их домой, Василий Тимофеевич полушутя-полусерьезно всегда произносил одно и тоже:
– Спасибо за помощь! Теперь буду с нетерпением ждать прихода весны!
Адекватные чувства к своему добродетелю испытывал и Никифор. И если в первое время он отказывался от заботы Василия Тимофеевича, то, год спустя, после образования их союза буквально все распоряжения и решения казака он воспринимал беспрекословно как должное, так как считал их глубокообоснованными.
Вот почему, когда осенью 1916 года на центральном рынке города Уральска казак объявил о своем решении построить для Грудновых еще один дом – на хуторе Чеснокове, Никифор не стал артачиться, а только лишь спросил:
– Может, разобрать ту «пятистенку»?
– Зачем лишняя канитель? Мы что, последние копейки потратим, покупая этот сруб? – спрашивал у Никифора казак. И как всегда, сам дал на поставленный вопрос ответ: «Нет. А потом ты не учитываешь, сколько мы этих «бумажек» с тобой еще заработаем. Пока не построим этот дом, будете жить там. А когда справим новоселье, будет видно, что с тем домом делать. Ты же сам говорил, что к нему прицениваются люди. Кроме того, повторюсь, ты не забывай, что у тебя дети подрастают. Может случиться, что кому-то из них тот дом пригодится. Ведь один Бог знает, что у нас впереди.
Этот поступок казака Лихачёва лишний раз подтверждает тот факт, что он не просто платил Никифору за его добросовестный труд, а проявлял безмерное милосердие, отеческую заботу о нем и обо всей семье своего помощника. Он даже облюбовал место для постройки второго грудновского дома.
– Только здесь надо строить, – убеждал казак Никифора. – Здесь и берег рядом, и яр некрутой, а главное – в стороне от дороги. Кто знает, возможно, простая дорога когда-то превратится в большой тракт. Да и от моего дома недалеко.
Забегая вперед, уместно сообщить, что по прошествии лет после коллективизации, в годы расцвета колхоза имени Шевченко, созданного из трех соседних хуторов: Чеснокова, Жукалина и Трекина, бывшая одноколейная дорога будет покрыта асфальтом, а обе ее стороны украсят добротные дома членов этой сельхозартели. Дом же Груднова Никифора Елисеевича, построенный в сторонке от центральной улицы поселка Чеснокова, перед одной из излучин реки Ембулатовки, конфискованный после его смерти у вдовы Варвары Ивановны Грудновой, превратится в колхозный маслозавод.
Мнение Василия Тимофеевича о том, что одному Богу известно, что ожидает человека впереди, многократно подтверждено жизнью. Не ошибся казак в предвидении и на этот раз. На том отрезке времени не просто развивалась история. Правда, новости в глубинку в те годы доходили очень медленно, так как радио тогда отсутствовало, а случайно завезенную в провинцию газету прочесть могли лишь единицы. И это неудивительно, так как в те годы популярные для времени церковно-приходские школы функционировали не в каждом населенном пункте, по этой причине большинство сельского населения было безграмотным.
Весной 1917 года до жителей хутора Чеснокова дошла весть, что Россия стала жить без царя. Но хуторяне, как и миллионы провинциалов России, не знали, как отразятся такие перемены в стране на их собственной жизни. «Нам, что ни поп, – произносили вначале, шутя, крестьяне спокойно, – то батька»,
Однако это спокойствие было временным и ошибочным. С началом гражданской войны население российских хуторов резко сократилось. Основной части мужского населения пришлось сменить «орало на мечи». Но и казак Лихачёв В. Т., и его помощник Груднов Н. Е. продолжали заниматься мирным трудом. Первый остался на хуторе по возрасту, а второй – по причине неопределенности своих убеждений. «Мне и при царе жилось неплохо, – признавался он, – и от большевиков я тоже плохого еще не увидел».
Слава Богу, что так обошлось!
Пятого января 1919 года утром, во время завтрака, Василий Тимофеевич высказал Никифору свое мнение:
– На носу Рождество Христово – главный наш православный праздник, и ты его должен встретить в кругу своей семьи.
– А я приглашаю тебя поехать к нам и вместе отпраздновать Рождество. Мои все будут этому очень рады.
– Большое спасибо за приглашение! Но я все же останусь дома. Это мне, ты знаешь, не первый раз, – спокойно констатировал казак.
И как ни настаивал Никифор, Василий Тимофеевич не изменил своего решения. И, благодаря этому, шестого января 1919 года они оба оказались на нужном в жизни месте.
Шестого января 1919 года в солнечный морозный полдень 224-й Краснокутский полк 25-й Чапаевской дивизии в походной колонне по приказу командира остановился, заняв всю единственную улицу заснеженного хутора Жукалина. Да ее и улицей стыдно было назвать. Жилища хаотично располагались преимущественно по правобережью реки Ембулатовки, а через дорогу от них из глины и соломы «слепили гнезда» четверо новоселов.
И стар и млад высыпали из своих мазанок, чтобы посмотреть на необычных гостей, посетивших хутор впервые за всю его историю.
— Есть у вас на хуторе или поблизости казаки? – задал вопрос, не слезая с коня, командир полка собравшимся.
Те отвечали охотно, но не совсем понятно:
– Были да сплыли.
– У нас нет! Есть один, но только на соседнем хуторе Чеснокове. – Да какой он казак! Он пахарь….
– Так есть или нет у вас казаков? – переспросил, багровея, командир.
– А мы Вам говорим, что на соседнем хуторе до сих пор проживает бывший казак.
– Бывших не бывает, – усмехнулся командир. – Кто он такой и где он сейчас?
– Можно я вам объясню? – сделал пару шагов из толпы убежденный активист Исаак Михайлович Белоусов.
– Давай!
– На следующем хуторе Чеснокове, в самом его центре, с правой стороны улицы в доме под железной крышей давно живет уральский казак Лихачёв Василий Тимофеевич. Но он ничем не отличается от нас. Он такой же селянин, как и мы. Потом уточнил: – Он, как и мы, пашет, сеет и убирает выращенный урожай. Единственное его отличие от нас, так это то, что земля, на которой он трудится, ему досталась от его отца, уральского казака. На этих полях он много лет работал со своими братьями. Но, состарившись, они покинули хутор, и теперь он трудится на наследных полях один. Если и нанимает кого себе на помощь, то за работу платит неплохо.
– Так он до сих пор не сбежал еще с хутора? – переспросил командир.
– Я час назад видел своими глазами, как он очищал сарай от навоза.
Из-за одного казака, оставшегося в одном из трех соседних хуторов, задерживать полк командир счел несерьезным занятием. Исходя из этого, личному составу полка он отдал приказ: походной колонной безостановочно проследовать через близлежащий хутор Чесноков, и, минуя соседний за ним хутор Трёкин, двигаться на следующий за ними хутор Чеботарев. Трем всадникам из разведгруппы полководец приказал остаться на хуторе Жукалине, чтоб они, дождавшись прибытия отставшего от подразделения хозяйственного взвода, сопроводили его на хутор Чесноков к дому под железной крышей.
Всадники, перестроив коней в колонну по два, рысью направили их к обозначенной цели по хорошо накатанной полозьями саней дороге. И только после этого командир воинского подразделения со своим ординарцем, замыкая колонну, решил сам уточнить личность подозрительного казака.
Василий Тимофеевич через открытые въездные ворота видел продвижение воинского подразделения по улице хутора. Он слышал о кровавых расправах новых властей с казаками, но, несмотря на это, сохранил присущую ему стойкость. Не стал казак скрываться за высоким забором или в другом надежном месте, а демонстрируя безукоризненное казачье дерзновение, спокойно занимался уходом за животными. Единственное от чего воздержался казак, на всякий случай, это от обычного обеденного их поения. Ежедневно в это время он гонял имеющуюся живность к речной проруби. Но и эта предусмотрительность не уберегла хозяина от разорения.
Когда командир с ординарцем въехали через открытые ворота в просторный двор, Василий Тимофеевич с вилами в руках вышел из сарая.
– Мы с казаками воюем. А ты почему не в седле? – обратился с усмешкой к нему нежданный гость, остановив коня в трех метрах от хозяина. – Ты же казак?!
– Да. Я казак, – спокойным голосом отвечал Василий Тимофеевич, держась за черенок воткнутых в снег сбоку вил. – И когда-то присягал «Богу! Царю! И Отечеству»! Но Царя теперь нет. Отечество – другое. А Бог распорядился мной по-своему: возраст мой уже не военный.… Так что, если вы считаете меня врагом, можете расстрелять прямо сейчас.
– Расстрелять недолго и нетрудно. Но ты нам лучше покажи свое хозяйство.
– Это тоже нетрудно. Да и скрывать мне нечего. Лучше скажите, что Вас интересует.
– Нас интересует фураж!
– Вот ключи от склада. Открывайте и берите все, что Вам надо, – указал рукой Василий Тимофеевич на рядом стоящий амбар и отдал ключи командиру.
– Егор! – обратился тот к адъютанту. – Отвези эти ключи оставшимся на хуторе Жукалине бойцам, введи их в курс дела и догоняй меня.
Примерно через полчаса возле забора казака Лихачёва остановились конные повозки хозяйственного взвода. Прибывшие бойцы не только опустошили складское помещение от фуража, но еще и позарились на упитанных животных казака. На глазах хозяина они зарезали двух быков-полуторников и неуспевшую опороситься крупную свиноматку.
– Слава Богу, что так обошлось, – промолвил казак, когда «под завязку» загруженный хозяйственный взвод тронулся от его забора. – Главное, сам остался жив.
Не взирая ни на что
Разумеется, немалый ущерб был причинен Лихачёву В. Т. хозяйственным взводом 224-го Краснокутского полка. Но это не ожесточило сердце казака. По его мнению, (да оно так и было), такое действие властьимущих было осуществлено вместо возможной расправы над ним. Воины, зарезав трех животных и полностью очистив сусеки от зерна, думали, что такое по объемам разорение для казака равнозначно смерти.
Но они глубоко ошибались. Василий Тимофеевич без сожаления думал об этой утрате, так как без экспроприированной продукции он продолжал жить по выработанным временем традиционным правилам. Вместо увезенного овса он включил в рацион животных зеленый житняк, закрытый от непогоды соломой. А словно для замены зарезанных красноармейцами полуторников, его Зорька отелилась двойней.
– Одно плохо, – отметил прибывший к нему после Рождества Никифор, выслушав повествование казака, – что остались мы без семян. Сеять теперь чем будем?
– Ну и память у тебя, Никифор, – усмехнулся Василий Тимофеевич на это. – А ты забыл, куда мы ссыпаем семена на хранение каждую осень? Обрадованные полученными от меня амбарными ключами, в сусеки, заполненные нами семенным зерном в сенях, солдаты не заглянули.
– Ну, слава Богу! А я подумал, что и семена они увезли.
– Вот и я подумал: от тех сусеков их Бог отвел.
Как ни странно, несмотря на полыхающую в стране гражданскую войну, летом 1919 года бригада строителей из города Уральска, состоящая из стариков и инвалидов, достроила для Грудновых на хуторе Чеснокове солидный для того времени бревенчатый дом под железной крышей. Но новоселье не состоялось в основном из-за незавершенности отделочных работ и отсутствия отопительных печей. Никифор и Василий Тимофеевич, довольствуясь достигнутым, были озабочены решением своих традиционных задач. Они оба все еще считали, что их союз нерушим и бытующие меж ними отношения незыблемы, и они даже мысли не допускали, что их могут лишить имеющихся у них средств производства, так как все было нажито честным трудом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



