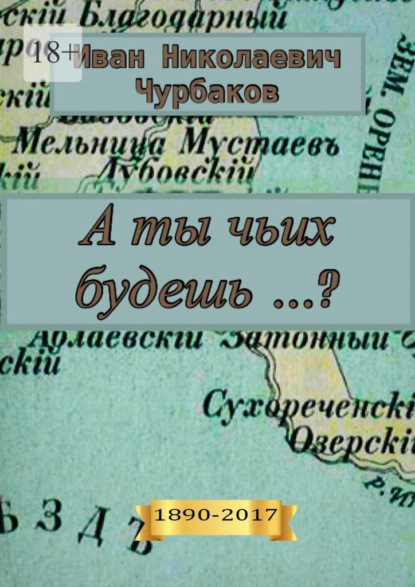
Полная версия:
А ты чьих будешь…?
Именно Никифор стал Варе опорой в эти драматические минуты осиротения. Он ответственно возложил на себя хлопоты проводов в последний путь усопшей ее наставницы. На чужом хуторе парень смог организовать похороны дорогого Варе человека.
После случившегося влюбленный Никифор постоянно с большим волнением думал о Варе. Ему очень хотелось быть с ней рядом постоянно, но даже навещать ежедневно любимую, жившую от него в двенадцати километрах, было совсем непросто. Можно было все упростить: сыграть свадьбу, но после смерти Вариной бабушки не прошло еще сорока дней. Поэтому такое мероприятие являлось для православных верующих и грешным, и кощунственным. В память о бабушке Варя продолжала жить под родной крышей, а парень при любой возможности навещал осиротевшую любимую.
С началом сенокоса встречаться стало еще труднее. Но отмахав литовкой целый день, либо откидав навильники сена с утра и до ночи, Никифор, заседлав коня, на крыльях летел к любимой Вареньке. В связи с этим у Елисея Груднова появилась новая головная боль. И он нашел способ избавления от неё. Дождавшись сорокового дня после погребения Вариной бабушки, после невозмутимого наблюдения за мытарством влюбленного Никифора, после завтрака, он ласково, как кот к ноге хозяина, прильнул к сыну, стремясь обрести понимание:
– Сынок, и нашто так мучить и себя, и мерина? Если вы с Варей любите друг друга, то вам надо пожениться. Сено мы заготовили. Хлебные поля еще не дозрели. Потому есть время, чтобы сыграть вашу свадьбу. Да и пока не начался пост.
Выслушав это, Никифор, забывшись на секунды, невольно вспомнил, как когда-то не подчинялся отцу и не ходил с Тимофеем на вечеринки. Но на этот раз бывший строптивец в ответ обрадованно заулыбался:
– А на это, папаня, я охотно соглашаюсь!
– Молодец! Тогда пойди к матери, смени косоворотку и шаровары и езжай с Богом к Варе, и сговаривайтесь на свадьбу.
«Бабка Грудниха здесь живет?»
В конце XIX начале XX века в российских губерниях врачи – профессионалы имелись лишь в городах, да и то в мизерных количествах. Старейший уральский писатель – краевед Н.Г.Чесноков в своей книге «На куполах столетий отблеск», посвященной юбилею города Уральска, приводит следующие данные из «Энциклопедического словаря» Брокгауза – Ефрона: «В городе 7 врачей гражданского ведомства, 6 военных, 2 врача вольнопрактикующих, 2 фельдшерицы – акушерки земской службы и 2 повивальные бабки. Войсковая больница на 100 кров, бесплатная лечебница для приходящих больных, с даровой выдачей лекарств, содержимая на средства благотвор. Общества; приют для родильниц на 6 кров; 2 вольных аптеки». (Стр.6) И это, согласно упомянутому словарю, на 38919 жителей города.
Однако болезни в иные годы просто свирепствовали и почти повсеместно. По свидетельствам архивных документов, наиболее распространенными являлись такие, как холера, сыпной и возвратный тиф, корь, дифтерия, скарлатина, малярия и еще множество других, которые часто носили эпидемический характер. К примеру, в городе Уральске в 1830 году прямо-таки зверствовала холера. Только за один месяц «с 7 августа по 6 сентября в городе умерло 1909 человек», – сообщал Военный Оренбургский губернатор Сухтелен В. П. в донесении в Министерство внутренних дел. Далее он подчеркивал, что «смертность в сем городе дошла до 80 и более человек в день». «В 1831 году холера вновь навестила Уральск и унесла опять более тысячи человек». (Н. Ч. К. 2. С. 33).
Таково положение было в городе, где имелись квалифицированные врачи и необходимые лекарства. Нетрудно представить, каково было жителям сельской глуши, которые и в благополучные, и в эпидемические годы были предоставлены сами себе. В большинстве случаев люди занимались самолечением. Иногда помощь больному человеку мог оказать кто-то другой, знавший народные средства избавления от привязавшейся хвори. Приключилась у человека, к примеру, неприятная неожиданность, которую медики в наши дни называют культурно «диспепсией» или «диареей», в помощь пускалось множество средств. В этом случае сам больной или находившиеся рядом с ним люди «приписывали» ему самые «пользительные» вяжущие средства: горькую полынь, кровохлёбку, рябину, сырые куриные яйца, рисовый отвар и даже рюмку водки с солью. От головной боли тоже находили множество средств.
Да что от головы! Болезни легких знахарки успешно лечили лекарствами, растущими рядом: порезтравой, солодковым корнем и «андысом». Ныне его корни продают в каждой аптеке под названием девясил.
Но кроме «знамых» болезней, люди заболевали и такими, о которых «не слышали сроду». А что делать, если от боли, хоть в петлю лезь? Люди в таких случаях порой впадали в отчаянье. До города из глухомани даже на паре хороших рысаков за сутки не доедешь. Да и не у каждого имелись таковые. Вот для таких случаев в провинциях во все времена имелись люди, обладавшие даром Божьим – знахари.
Такой дар девушке, по имени Варя, вероятно, не скупясь, передали своими генами ее далекие предки, а в тех этот дар при их рождении мог вложить Всевышний. Девушке повезло, что кроме унаследованного дара она имела рядом и кровную наставницу – старенькую родную бабушку.
Варе было лет двенадцать, когда она первый раз помогла бабушке принять тяжелые роды. И после этого повитуха без внучки на вызовы к роженицам больше никогда не ходила.
– Пока я жива, учись! И старайся все запоминать, как я делаю и что делаю. Тебе это потом очень пригодится! – наставляла знахарка.
– А зачем мне это? – спрашивала внучка вначале, не видя своего будущего, – я без тебя ни к кому не пойду.
– Пойдешь! – пророчески убеждала старая будущую целительницу, видя способности девочки. – Запомни: это твоя доля!
Уместно оговориться, что сама прародительница ни анатомию, ни фармацевтику ни в каких учебных заведениях не изучала, а физиологические знания человеческого организма она приобрела в свое время от своей наставницы. Тем не менее, помощь каждому больному, если тот вовремя обращался за ней, ею всегда оказывалась так, что абсолютное большинство пациентов после избавления от ужасающего недуга просто не знали, чем и как достойно отблагодарить свою спасительницу. А с теми болезнями, против которых она была бессильна, где, к примеру, необходимо было хирургическое вмешательство, знахарка всегда рекомендовала больному ехать к «градским» врачам.
С возрастом у Вари открылась уникальная способность «отыскивать» болезни человека рукой. Нередко, не получив никакой информации от пациента, она безошибочно рукой, как зондом, определяла больное место в его организме. Обнаружив у внучки этот дар, бабушка целенаправленно стала упражнять ее, раскрывать перед будущей целительницей все известные ей секреты народного врачевания. Опытная знахарка учила внучку тому, чтобы она в первую очередь стремилась определить причину заболевания человека. И уже к семнадцати годам Варя фактически не только ознакомилась с «методой» врачевания древней целительницы, но и эффективно использовала ее в работе с пациентами. Что удивительно, со слов самой Варвары Ивановны, после диагностики, причем не позднее третьего посещения больного она сообщала ему не только, чем он болеет, но и от чего или от кого он приобрел эту болезнь.
На том историческом отрезке времени существовало множество народных поверий. Юная целительница уже на начальном периоде врачевания очищала страдающих от многочисленных «наговоров», «сглазов» и «порч». Для избавления от недуга в ход ею пускалось множество целебных трав и десятки заговоров, которые Варя заучила наизусть. С помощью особого ритуала она успешно избавляла несчастных младенцев, страдающих детской грыжей.
К Варе за помощью люди стали обращаться сразу же после смерти ее наставницы – любимой бабушки. Других знахарей поблизости не было. Поэтому большинство больных, особенно приезжих, разыскивали популярную бабку, а их направляли к ее внучке. Фактически выходило так: молодая знахарка в самом начале врачевания пользовалась визитной карточкой своей наставницы.
В 2012 году, собирая материал для написания книги о грудновцах, в летний день при заходе солнца я прибыл в город Уральск, где проживал мой двоюродный брат Георгий Ильич Фоняков со своей супругой Верой Михайловной и 50-летней дочерью Валентиной Георгиевной. После ужина Вера Михайловна и Валентина Георгиевна освободили стол от посуды. Вооружившись блокнотом и авторучкой, я попросил хозяев дома поднапрячь память и сообщить мне о наиболее ярких случаях, связанных с врачеванием нашей прародительницы, народной целительницы Варвары Ивановны Грудновой, так как до последнего ее часа они жили в одном населенном пункте.
– Таких случаев можно привести множество, – первым отозвался хозяин дома, – их хватит на несколько книг. Георгий Ильич на секунды смолк. Было видно, что он решался с чего начать свои воспоминания. «Вот случай из моего детства. Произошло это в тот год, когда в моей жизни началась радостная полоса, сбылась моя мечта приобрести музыкальный инструмент. Правда, мне удалось купить не гармонь, как я мечтал, а мандолину. На ней я не по нотам, а по памяти, на слух разучивал услышанные мелодии. Не знаю почему, но каждую новую разученную вещь мне хотелось обязательно играть бабушке Варваре. Возможно потому, что она всякий раз нахваливала мои способности. Жила Варвара Ивановна тогда в километре от нашего дома на хуторе Жукалине. Несмотря на такое расстояние, я с мандолиной в руках ежедневно к полудню появлялся на пороге бабушкиного дома. Мы оба и в равной степени были рады каждой встрече.
Но однажды в летний день я с утра занемог. У меня повысилась температура. Ощутив недомогание, я не навестил любимую бабушку. На другой день она собралась пешим ходом преодолеть 15-километровое расстояние, сходить на хутор Петров, предчувствуя что-то неладное в семье своей дочери Анастасии Никифоровны. Но в этот день у нее из головы не выходил и мой единственный вчерашний прогул. По пути она и заглянула к нам. Лежа в кровати, я услышал знакомый голос:
– А где Горынька? Что с ним случилось? – обеспокоенно спрашивала она у мамы в коридоре.
– На кровати лежит. Что-то приболел.
Через секунды бабушка стояла против меня.
– Заболел бедняжка, – не спрашивала, а отмечала бабушка.
– Ну-ка встань с кровати и подойди к окну. Давай я на тебя посмотрю. И стоило мне выполнить ее просьбу, она через минуту запричитала: «Ой, Горынька! Что ж наделала твоя мымынька?! У тебя же свинка! Посмотри, Маня, – обращалась она к маме, – у него же вся шея раздулась. Что же ты вчера меня не позвала? Давай мне быстренько катушку ниток и ножницы. Я постараюсь прогнать его свинку».
Мама без суеты достала из комода катушку ниток и отдала ее бабушке. А та, оторвав нитку от шпульки, сантиметров пятьдесят, подошла к иконостасу. Долго читала она нужные молитвы и после прочтения каждой завязывала на нитке узелок. Затем попросила у мамы ножницы. Превратив нитку в комочек, она подошла к окну, сделала в оконном проеме концом ножниц отверствие и заложила в него наговоренный комочек. «Вот и все, Горынька. Теперь свинка от тебя бегом побежит», – вселяла в меня уверенность бабушка.
Через сутки бабушка пешим ходом вернулась из хутора Петрова и, перешагнув порог нашего дома, отчиталась перед нами: «Не зря мое сердце так болело. Тянуло меня туда из-за того, что там второй мой внучек, Ванечка, разболелся. Слила вчера у него с ноги проклятую «волосянку». Теперь душа у меня не болит за своих внуков. Вижу и Горынька после моего лечения заулыбался. Но давай я еще раз полечу тебя». Бабушка повторила процедуру, и я действительно забыл о привязавшейся хвори», – завершил свое воспоминание Георгий Ильич.
– А я никогда не забуду свои первые роды, – заговорила Вера Михайловна. – Если бы не бабушка Варвара, возможно, я сейчас не сидела бы за этим столом. Месяц я пролежала на сохранении в Рубежинской участковой больнице. А 19 февраля утром при обходе врач меня прямо ошарашал:
– У нас вы не родите, так как ребенок у Вас лежит ножками на выход. Для благополучного исхода нужна операция, но я не хирург. А до городской больницы на лошади Вы не доедете. Поэтому я Вам советую ехать к повитухе Варваре Ивановне Грудновой. Она спасет и ребенка, и Вас.
Вера Михайловна на секунды замолчала. Видимо в ее памяти промелькнули пережитые мгновения. Потом продолжила повествование:
– Хорошо, что Владимир, брат Георгия приехал проведать меня в тот день. С ним-то я и вернулась домой. Помнишь, Гора, как я в тот день мучилась?
– Как не помнить, – присоединился к воспоминаниям Георгий Ильич. – Я тогда находился на ремонте в поселке Январцево. А в тот день приехал домой, чтобы помыться в бане. Введя тебя в дом, мы с Володей и погнали измученного коня за бабушкой Варварой.
– Да, – продолжила воспоминание Вера Михайловна, – стоило ей ощупать мой живот, она сразу же определила причину моих мук и подтвердила мнение участкового врача: «Сама, – говорит, – ты не родишь, так как ребеночек у тебя неправильно лежит». И тут же скомандовала Георгию: «Быстро натопи пожарче баню».
Вера Михайловна на секунды смолкла, видимо, вновь в ее памяти всплыли прежние ощущения.
– Чем и как она тебе помогла? – задал я вопрос, желая узнать подробности о работе повитухи.
– О, там было хуже операции. Минут пятнадцать или больше сидела я на полке в жарко натопленной бане. Потом бабушка помогала мне спуститься с него вниз головой. Затем, уложив меня на спину, нужными движениями разворачивала моего будущего Володеньку. Эту процедуру она повторила три раза и там же в бане приняла мои роды.
– Молодец! – похвалил я то ли рассказчицу, то ли знахарку.
– Да что говорить. Чудеса творила наша бабушка Варя, – с гордостью продолжала повествование о знахарке Вера Михайловна. – Припоминается ещё один случай. В том же 1957-м году, в ту же участковую больницу совхоза «Рубёжинский» поступила 35-летния женщина с больным лицом. Неизвестно, от чего оно у нее покрылось волдырями. И чем только не лечил ее участковый врач Виктор Иванович (фамилию не вспомню), но ни антибиотики, ни различные мази не давали положительного результата. А когда лицо больной покрылось сплошным волдырем, Виктор Иванович вместо областной больницы посоветовал этой пациентке съездить в наш посёлок к Варваре Ивановне Грудновой. Ну и что думаете? После девяти курсов лечения больная вновь стала красавицей и привезла своей спасительнице в знак благодарности красивый пуховый платок.
– А вы расскажите, как бабушка избавила тетю Таню от бородавок, – включилась в разговор все это время молчавшая Валентина Георгиевна.
– Да. Тот случай можно только чудом назвать, – заговорил Георгий Ильич. – У бабушки Варвары своей бани не было. Чаще всего она по субботам приходила к нам. В одну из таких суббот после бани сели мы всей семьей на кухне ужинать. Бабушка всегда сидела с торца стола. С правой стороны от нее всегда сидела наша мама. А по левую руку от бабушки мы посадили приехавшую к нам в гости младшую сестру Веры, Танюшу. Ей тогда было уже семнадцать лет. Но в таком возрасте жизнь девушки омрачалась бородавками, которые облепили обе ее руки. Она всегда испытавала неописуемый стыд, находясь за столом прилюдно.
– Ты что же, Танюша, до сих пор носишь эту дрянь? – произнесла Варвара Ивановна, приподняв Танины руки. – С ними тебя никто и замуж не возьмет.
– Как я была бы рада, если б от них избавилась, но вряд ли это мне удастся, – с пунцовым лицом смущенно вздохнула Танюша.
– Интересно знать, что бы ты сделала, если б кто-то очистил твои ручки?
– Я б расцеловала того человека… Я бы до упада плясала от радости. Но вряд ли такое случится, – отчаянно завершила ответ на заданный бабушкой вопрос Танюша.
Прошли три недели. В очередной раз после бани мы и наша гостья Танюша заняли свои места за столом.
– Горынька, – неожиданно обратилась ко мне баба Варя, – ты принеси, пожалуйста, свой аккордион.
Я тогда уже свободно играл на этом инструменте всякие мелодии. Не понимая для чего, я беспрекословно выполнил ту просьбу.
– Играй плясовую! – заинтриговала бабушка всех присутствующих второй просьбой, когда я расположился в стороне стола на отдельном стуле, раскрыв музыкальный инструмент.
– А кто плясать-то будет? – задал я напрашивающийся вопрос.
– Ты, что, забыл? Все сидящие за этим столом подтвердят, что три недели назад Танюша обещала плясать до упада.
И только после этих слов Таня обратила внимание на свои без бородавок руки.
– Не может быть! – с сияющим лицом радостно воскликнула она, устремив свой взгляд на чистую кожу рук. – Это же чудо! Смотрите, это же чудо! – крутила она своими чистыми ручками перед глазами всех собравшихся. И только осознав до конца происшедшее, она расцеловала бабушку. А я, разделяя радость гостьи, развел меха аккордиона с аккордами «Цыганочки». Под мой аккомпонимент счастливая Танюша пустилась впляс.
Надо же было так случиться…
После знакомства с Никифором и замужества, у Вари в жизни началась, как она выразилась, беспокойная полоса. Через неделю после их свадьбы к Елисею Груднову прискакал гонец из хутора Стольникова с печальной вестью. Привязав коня и чуть ли не вбежав в дом, он, даже не поздоровавшись, словно о пожаре, скоропалительно сообщил Елисею:
– Ваш Егор помёр! Карачун пришел ему!
– Не понял…, – высказал недоумение Елисей.
– Повторю сызна: ваш Егор помёр, и надо его похоронить.
И только после этого вестовой протянул руку для приветствия, а Елисей осознал, что лишился родного брата и в очередной раз проявил искреннее сочувствие к усопшему. Позже ему стало известно, что после Никифоровой свадьбы покойный «не просыхал» целую неделю, непрестанно заглядывал во флягу с брагой. У умершего вообще не было семьи. Прожил он в им самим же построенной мазанке одиноко. Было общеизвестно, что причиной его одиночества являлась безответная любовь.
– Ну что, Никифор, – обратился Елисей к сыну после похорон, – видимо, так угодно Богу. Езжайте с Варей на хутор и собирайте выращенный дядькой урожай. Кроме тебя это никто не сделает. И поле то пусть твоим и останется. А наш урожай мы уберем сами.
Такое решение Елисей Груднов принимал с некоторым сожалением, так как Никифор был на диво хватким в хозяйственных, да и в житейских делах. С ним бы он доживал свой век, как у Христа за пазухой. А согласился родитель на переезд молодоженов на хутор Стольников отнюдь не случайно. Мог бы Елисей послать туда Тимофея, но после тяжелых родов его незабвенная Екатерина Ильинична являлась плохой помощницей мужу в уборке урожая. Вот так после свадьбы молодая чета Грудновых и обосновалась на хуторе Стольникове Оренбургской губернии. Но «с неба свалившийся» земельный участок будет не последним подарком молодоженам оттуда.
– Здравствуй, Варенька! Здравствуй, моя спасительница! – услышала Варя, перенося в мазанку скромные пожитки. – А я все эти дни думала, кто рядом будет жить после смерти дяди Егора? – не умолкала соседка Елена, обрадованная встречей. – Ты что, меня не узнаешь?
Как не узнать? Вспомнила Варя, как в прошлом году привез ее и бабушку сюда староста хутора к своей больной жене. Весть об их приезде быстро облетела округу. Много пришлось поработать тогда бабушке в летней кухне старосты. А под конец дня, когда знахарка сливала «родимчик» у одного младенца, к Варе подошла с распухшей щекой эта молодая женщина и обратилась к ней с надеждой:
– Вторые сутки не сплю. Зуб, окаянный, замучил меня. Помогите! – стонала от боли тогда Елена.
– Давай я тебе заговорю твой зуб! Садись! – указала Варя на стоящую рядом табуретку.
– Делай, что хочешь! Только помоги!
После заговора Варя посоветовала пациентке настрогать «кочерыжки» от тыкв, прокипятить их и полоскать этим отваром полость рта, пока не спадет опухоль и окончательно не успокоится ее истязатель.
– Спаси Христос за твое лечение! С тех пор я забыла про свои зубы.
Весть о переезде на хутор молодой знахарки, как и в прошлом году, быстро обошла каждый дом. И так случилось, что через неделю молодую повитуху, только что возвратившуюся из поездки от больного, вновь потревожила соседка Елена:
– Выручай, Варя! В третий раз прибежала к тебе. Шабриха мается второй день, разродиться не может.
Наскоро собравшись, проследовала повитуха к очередной роженице. Младенца ей спасти удалось, но женщина от большой потери крови после родов скончалась. Все хлопоты с похоронами соседи взяли на себя, а от новорожденной девочки отказались.
– Мы боимся, что и она умрет, – признались односельчанки. – А ты как знахарка этого не допустишь.
У умершей роженицы родственников поблизости не оказалось, а у соседки Елены была куча своих детей. С малюткой на руках Варя пошла к предыдущей роженице, с просьбой оставить ей новорожденную до приезда отца девочки, но та от ребенка категорически отказалась:
– Кормить ее даже по три раза в день я буду. Молока у меня, слава Богу, хватит на двоих, но оставить жить ее у себя я не могу. У меня и так мал мала меньше. Варе оставалось одно: забрать малютку себе.
– Оно нам надо? – первый раз в начавшейся семейной жизни вскипел Никифор. – У нас скоро, с благословения Господа, свои дети появятся.
– А что делать, Никиша? – сострадательно убеждала Варя мужа, – у покойницы, со слов соседей, родных нет. А муж неизвестно где на заработках. Не выбрасывать же кроху. Пусть она пока останется у нас, а там, как Бог даст….
– Смотри, Варя…. Конечно, все же живое существо, – немного подумав, смягчился Никифор. – Но канителиться придется тебе.…
– Меня это ничуть не пугает.
– Тогда давай наречем ее Анной, и пусть она нам приносит благодать Божию. Варя положила девочку поперек самодельной деревянной кровати, затем подошла к мужу и поцеловала его.
– Спасибо, Никиша! Я была уверена, что ты меня поймешь. Я знала, что ты у меня хороший. Одно меня волнует, где она у нас спать будет.
– А вот за это не беспокойся. Ты знаешь, где спит мой маленький племяш Константин, которому два месяца назад ты помогла появиться на свет?
– Да.
– Тогда знай, что его зыбку изготовил твой муж. Я завтра схожу домой. Там у отца для зыбки нашей дочери есть и доски, и сыромятные ремни.
– Еще раз спасибо тебе, Никиша! – второй раз поцеловала Варя мужа. – Зря я тревожилась за это.
На другой день напротив своей кровати Никифор закрепил к главной балке скромного жилища зыбку на четырех сыромятных ремнях. Вот так и осталась чужеродная девочка до своего замужества в семье Грудновых как своя.
Конечно, Анютка доставила молодоженам немало непредвиденных хлопот. В первые дни жизни девочке больше всего приходилось лежать под простеньким навесом, смастеренным Никифором на краю убираемого поля. Три раза в день Варя носила Анюту к кормилице, а когда на это не было у нее возможности, запросы девочки она удовлетворяла собственными подкормками: отваром овса и коровьим молоком, разбавленным кипятком. В этом затруднений больших не было, так как, отделяя сына, Елисей Груднов выделил молодоженам дойную корову. И девочка, словно понимая положение приемной матери, после полученной подкормки спокойно посапывала в любой обстановке. А она часто менялась. Варю часто беспокоили больные. Иногда Анютке приходилось трястись на тарантасе с приемной матерью в соседнее село, где в срочной помощи нуждался больной человек. Молодая знахарка, невзирая на определенные трудности, понимая острую необходимость, помня завет своей наставницы, всегда оказывала помощь всем нуждающимся. И так она поступала не только из меркантильных интересов, а от приверженности к православной этике и своему делу. И, вероятнее всего, движимая святым духом, целительница всегда одерживала победу над любым недугом. Болезненно знахарка переживала смерть лишь единственного не спасенного ею человека – матери приемной дочери Анюты, хоть и вины ее в этом не было. Слишком поздно ее тогда пригласили к роженице.
В 1903 году у Грудновых родилась первая дочь Марфа. Беспокойно проходили год за годом. «Бабку Грудниху» нередко разыскивали приезжие. 11 ноября 1909 года у Грудновых родилась вторая дочь Настя. Но за четыре недели до ее рождения уходящий год преподнес им большие жизненные перемены.
Уникальный гость
1909 г. Осень для Никифора Елисеевича Груднова – любимое время года. Радует его, что страдное время позади, что к предстоящей зиме он подготовился основательно: скотина под крышей, корм для нее имеется в потребном количестве. А при таких обстоятельствах зимой у хозяина одна забота: лежи да плюй в потолок.
Безмятежно пребывал Никифор Елисеевич и в памятное воскресенье. Очистив хлев от навоза и накормив скотину, он отлеживался в залитой ярким солнечным светом передней комнате на им самим же оборудованных полатях. Лучи в помещение попадали через два маленьких окошка, выходящих во двор, и, отражаясь от побеленных стен, они наполняли комнату ослепительным светом. Рядом с отцом на полатях играли с куклами шестилетняя Маня и на год старше ее приемная дочь Анюта. Наблюдая за девочками, Никифор ожидал Вариной команды: «На обед!»



