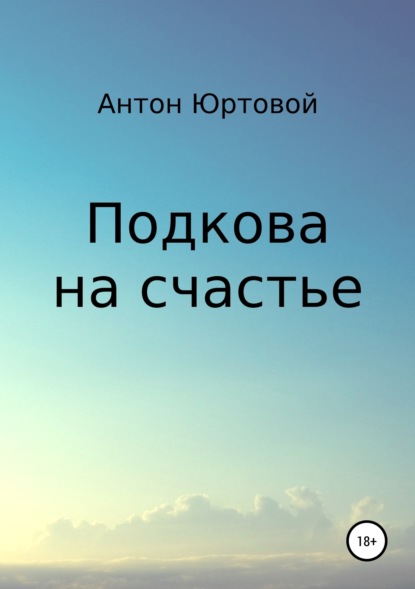 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
В тот день наша семья работала на лугу, заготавливая сено для своей бурёнки. В помощь приехал самый старший брат, отпущенный в положенный отгул за переработку. Также освобождение на полдня от работ в колхозе имела мама. Уставшие, все только что вернулись с луга. На обед мы получили по кружке молока. Больше ничего не нашлось.
И вот мешочек с фасолью. Он был накрыт лопуховыми листьями, но они уже пожухли и высохли, так что частью он уже был открыт, благодаря чему мы и увидели его. Мы прибежали с ним к маме и успели застать её, когда она уже сходила с крыльца, отправляясь по своим делам.
Бобов набралось около шести стаканов. Кто спрятал и зачем? Возможно – краденое. В этом случае не было никакой необходимости заявлять о находке… В то же время торопиться с варкой мама не позволила категорически. Ждите меня, сказала она и напомнила нам об отравленном колхозном зерне, когда мы, употребив его, еле выжили.
Может, и теперь – отравленное.
И мы ждали, чуть ли не до ночи. Фасоль долго варилась, когда же была наконец готова, нам предстояло испытать настоящий шок.
Сев за стол, мама сказала, что поест одна – во избежание худшего. Результат скажется к утру, так что нам, ожидающим, лучше лечь спать. Легко говорить! Старшему из братьев как бы и ничего, как-никак, а он кормился в столовой предприятия и день мог перетерпеть, а каково нам со средним…
Сон в этот раз, как и всегда в детстве, когда наработаешься, упорно смежал мне веки, но он явно уступал неутихающему ожиданию… До того, как он успел одолеть меня, я вспомнил ещё об одном отравлении, «сладком», как о нём говорили, факте, к тому моменту произошедшем совсем недавно, каких-то недели три назад.
Нам, группе ребят моего возраста и мне в том числе, разрешили поучаствовать в медосборе на колхозной пасеке. Она размещалась на значительном удалении от села у подножия одного из лесистых склонов.
Отпуская нас, матери выкроили на обед кому по бутылке молока, кому по куриному яичку. Зато, думалось каждому, там – мёд, отъедимся… В самом деле, была такая возможность, и мы ею воспользовались… Помогая престарому пасечнику, одни из нас, облачённые в защитные сетки, носили рамки с мёдом, забирая их у деда из рук у открытого им очередного улья, над которым в горячем воздухе жужжали возбуждённые пчёлы; другие крутили ручку медогонки у края пасеки, наблюдая, когда переполненные соты опустеют при их круговом вращении, а в поставленной понизу бадейке живо прибывает вязкой, слегка пенистой свежей медовой массы, – здесь ужаливания пчёл хотя и не исключались, но были редкими, их, не надевая защитной сетки, не составляло труда стерпеть, зная о предстоящем угощении…
Проявив щедрость, пасечник по окончании дела выдал каждому только что откаченного, пахучего мёда с добрых полстакана, а, может, кому и перелил. Как с ним управиться?
Среди нас нашёлся уже раньше участвовавший в такой престижной для пацанов работе, и он знал, выдавая знаемое как большой «секрет»: надо предложенное нам не есть, а выпить, всё зараз. Что мы и сделали, не озаботившись удостовериться, как поступит сам советчик. Он же пить не торопился.
Голодные желудки отозвались на излишек сладкого и липучего острой болью. Мы свалились на траву и буквально катались по ней в конвульсиях, пытаясь хоть как-то облегчить муки. Не помогали ни вода, ни молоко, так что «отойти» нам удалось по крайней мере спустя час. Злой советчик не собирался никому сочувствовать и даже довольно часто заходился в смехе над нами, беднягами.
Дед, определив виновника, отплатил ему затрещиной и соответствующим строгим внушением, однако облегчить наши страдания он не мог…
Сон при уже отваренной фасоли не был в руку: она – годилась к употреблению! Об этом нам, проснувшимся, радостно сообщила мама. С нею отравления не случилось.
Потчевание нас найденными бобами она растянула на несколько дней. Мы ещё долго после этого вспоминали о её мужественном поступке, который хотя и был необходим, но трактовался нами с некоторой долей иронии; ведь именно иронией должно было подчёркиваться наше нетерпеливое ожидание лакомства, так старательно удержанное матерью в желании защитить и сохранить нас.
Жертвуя собою столь необычным способом, она приобретала право называться истинной героиней нашего бедового детства. Как и всегда, а в этот раз в особенности, мы узнавали о её неиссякаемом добром к нам расположении и чистом, ярком достоинстве матери с большой буквы, чем могли гордиться и гордились…
Сама она выпячивать свою жертвенность не имела никакой охоты и, как было понятно, не видела в ней ничего значимого.
На мирном фронте в условиях тяжелейшей войны такое ви́дение себя действительно могло считаться едва ли не мелочью. Стоило сожалеть об этом; но в то время, когда война до основания подрывала и истощала силы народа и каждого жителя, многое в тылу, как принадлежавшее им и их характеризующее, попросту уходило из поля зрения как несущественное. Жизнь во многом заслонялась болью от понесённых от врага утрат, и такою её спешили запечатлеть как в обычном общении, в обиходе, так и в средствах пропаганды и в искусстве, усиливая чувства скорби, горечи и отчаяния.
Конечно, «закрыть» жизнь полностью никому бы не удалось.
Мне вспоминается один из художественных фильмов по теме Великой отечественной, первым увиденный мною, когда страна ещё терпела поражения.
Вечером, по случаю редкого приезда в село кинопередвижки, в помещении, временно отведённом под клуб, что называется, яблоку негде было упасть. В фильме рассказывалось о зверствах, учинённых гитлеровцами на советской земле.
Страшные истязания проводились всюду, где фашисты ни появлялись, в том числе на захваченной ими глухой лесопилке. Там военнопленных и сопротивлявшихся не только расстреливали, умертвляя сразу, но и подвергали пыткам, бросая их перед лицом ещё не казнённых под вращающуюся стальную пилу, когда были слышны ужасные крики и вопли жертв…
Негодование по поводу представленного охватило зрителей до такой степени, что они не могли выразить его в голос и тяжело, мрачно молчали. Боль пронзила каждого. Но когда фильм закончился и посмотревшие его расходились, по селу, в разных его местах я услышал пение…
Будто бы вовсе некстати, но без него у нас не обходилось.
Хотя бы две-три девушки, сойдясь вместе, а то и одна, да если тут ещё оказывался кто из юношей или даже подростков, не прочь были распеться в полный голос, перебирая одну за другой многие народные или новые популярные мелодии…
Распевки по образцу художественной самодеятельности в селе ещё только начинали практиковаться, поскольку для этого и постоянного места не находилось, и желающих, в том числе тех, кто мог бы грамотно вести соответствующие занятия.
Пение было в ходу в традиционном, неформализованном виде, когда не считалось зазорным показывать своё умение не где-то в тесном официальном помещении, а на просторе улицы, на завалинке, даже где-нибудь на лугу или в поле, работая или направляясь на работу или же, по её окончании, – на пути домой; то есть и время для этого могло использоваться любое, а не только вечернее, и пели не только молодые.
Хотел бы особо отметить, что петь имели охоту и умели достаточно хорошо, не обязательно собираясь вместе, но и находясь дома, в избе, среди своих, и даже – наедине. Ничего претенциозного в этом своеобразии не содержалось. Таким издавна и почти всюду в глубинке было представлено песенное народное творчество. Аккомпанирующими средствами оставались преимущественно гармонь, балалайка или домра, да и то часто обходились без них.
Многое изменилось позже, особенно с появлением проигрывателей, развитием кинематографа и радио, а пока певческое деревенское искусство, не скованное ограничениями идеологий, существовало как независимое, свободное и тем по-настоящему ценное.
Проникновенные, долго не старевшие мелодии о тяжкой житейской участи каждого, о радостях быстро проходящей молодости, о любви, внутренней неуёмной печали и надеждах на что-то осветлённое, называемое счастьем, входили важнейшей составной частью в местный песенный репертуар, и если в нём что менялось, то как бы само собой, без каких-либо указаний со стороны и – без штатных менеджеров.
В этом случае в пении сохранялся ресурс его воспроизводства и развития, когда сами исполнители брались обогатить традиционный репертуар, сочиняя мелодии и слова к ним.
Сводилось такое творчество по большей части к неким поспешным пробам, в которых результату устояться удавалось редко; однако стремление здесь не игнорировалось и было, что называется, обыденным фактом.
В селе знали несколько певуний, имевших на своём счету сочинённые ими напевы, как правило, недостаточно совершенные по «выделке», но глубоко лиричные, всем хорошо понятные в их простоте и трогательной чувственности. Уже подходило время, когда такая своеобразная культура должна была остаться в прошлом под воздействием новых стилей. Новое хотя и не могло превзойти её, как форму, в которой удерживалось и трепетало естественное, то, что принадлежало народной среде, но тут по-своему сказывалось течение общественной жизни в её актуальных проявлениях и в изменчивости.
Не вполне выражавшее духовную суть народного, новое получало поддержку и даже становилось популярным. К примеру, так обстояло дело с произведениями патриотического плана. Как исходившие из доктрин о защите отечества они, такие произведения, активно проникали в сельскую среду и в некоторой части оказывались в ней достаточно любимы, прежде всего – молодёжью; хотя это, конечно, был суррогат, где даже непритязательный вкус мог легко различать созвучия, соответствовавшие строгим тогдашним штампам официальной пропаганды, – как вербальным, так и мелодийным.
В целом же достаточно гармонично сосуществовали самые разные жанры. Я, как быстро узнававший песенное искусство в его содержании, более естественном, чем официальном, предпочтение отдавал песням народным, лирическим. Их с удовольствие пела наша мама. В её исполнительской обойме я насчитал более двух десятков песен, как правило, коротких, но весьма колоритных, «вывезенных» ею из Малоро́ссии, хотя среди них были также произведения литовского происхождения, что указывало на историческую родину исполнительницы, а также – местные, здешние.
Голос она имела мягкий, чувственный. Пела негромко, задушевно, лирично, не напрягаясь, как это бывает в привычке исполнения «для себя». Выбирала время, больше в процессе какой-нибудь затяжной домашней работы. Со своим голосом ни от кого не пряталась, не отделялась, и можно было, усевшись с нею рядом или даже издали, слушать её, очаровываясь мелодикой и тонкой чувственностью каждой ноты, озвученной вместе с относящемуся к ней слову или слогу…
Вряд ли ей было дано отвлечься пением от неусыпной тревоги и глухой, беспокойной насторожённости, какие держались в ней с тех уже давних для неё пор, когда начинали приходить к ней горькие житейские тяжести и потери. Но не следовало сомневаться: облегчение в своём странном статусе супруги бе́з вести пропавшего всё-таки навещало её и как-то её поддерживало, пусть и недолго.
Я отмечал это по осветлению, сквозившему в чертах её усталого лица, забывавшего об улыбке и теперь искрившегося ею, в молодеющих зрачках глаз. Достойным восхищения я мог считать её неубывающее внешнее спокойствие, добытое в терпении, в бесконечных делах, когда не забывается о главном и значительном.
Ни в малой степени этим не портилось её пение, насыщенное волнительностью и соучастием… Не пристало мне говорить о себе как воспринявшем её образ в том его прекрасном обрамлении, какое мне очень редко доводилось наблюдать в других людях. Подрастая со своими открытиями, огорчениями и обузами, я особо не стремился к заимствованиям и предпочитал укрепляться в добытом самостоятельно.
Песнями я заслушивался не только мамиными. Было вдоволь к чему приобщиться, подойдя к поющим. Я отмечал различие в исполнении, когда люди пели на ходу или где-либо усевшись. Также любопытными были акценты в пении в дневное и вечернее время, на морозном воздухе, с устатку, в обстановке сдержанного, тихого душевного расположения или вызывающего, резвого удальства и подъёма.
Долго пребывая в одиночестве и вынужденно замыкаясь в себе, я не избежал закономерного в таких обстоятельствах укрепления во мне смущённости, черты довольно коварной, если иметь в виду стержневое в самом себе.
Мне казалось, что при всём моём восторженном отношении к поющим, к пению как увлекательному процессу, где находилось место и потребности в сочинительстве, сам я войти в этом мир остерегаюсь и вряд ли смогу, по крайней мере так, как бы того мне хотелось… Участие не исключено, однако дело может ограничиться лишь любовью, привязанностью, хотя и прочной, добросовестной и долговременной.
Мне об этом, кстати, говорила и мама, умевшая вовремя замечать во мне те или иные индивидуальные задатки или несовершенства. Я не нашёл что возразить ей по данному поводу сразу, так как не согласился с нею, вознамерившись и в этой деликатной проблеме попробовать испытать себя.
Правда, пришлась такая проба на период уже более позднего моего детства, но что я решусь на неё, я, кажется, твёрдо знал уже и много раньше. Здесь нахожу нужным упомянуть о ней, дабы не прерывалась общая нить этого моего повествования.
Запомнив некоторые мелодии и слова к ним, я взялся спеть их дома наедине. Потом ещё. Слух, казалось, не подводил меня, но с голосом выходило плохо. Так же обстояло дело с сочинительством. Поупражняться я выходил в сад, в отдалённые пустыри, чтобы остаться кем-нибудь не обнаруженным и не пристыжённым.
Будь возможным поучиться у кого-то опытного и грамотного, я бы наверное очень скоро признал свою несостоятельность. Но по этому пути я не пошёл, продолжая тайные свои занятия, правда, упражняясь в них всё реже.
К тому, чтобы дело не заводить в окончательный тупик, меня подтолкнула встреча с бродячим скрипачём, невесть как оказавшимся в нашей деревне.
Это был худощавый, измождённый мужчина, старик, одетый во всё поношенное, с интеллигентной бородкой. Я как раз был дома и голосом «нащупывал» мелодию к некоему известному стихотворению, когда услышал его игру. Музыкант энергично двигал смычком, стоя под двумя рослыми берёзами у входа в наш двор, перед находившейся возле них скромной дощатой скамеечкой на два места.
Берёзы были с надрезами, по́низу которых крепились жестяные желобки – для забора сока. Стоял жаркий день середины апреля – самая пора для выделения этого прекрасного напитка. Сок поступал в небольшую банку на подставке. Скрипач, возможно, слышал, как я упражнялся, но когда я выглянул из калитки и он увидел меня, он несколько растерялся, как испивший без разрешения содержимого банки, – она, о чём я знал, должна бы наполниться уже под края, но – была пуста.
Прервав игру и указывая на опорожнённую посудину, маэстро весьма вежливо извинился и как бы в искупление своей совершенно мелочной по деревенским понятиям провинности, не спрашивая меня, снова задвигал смычком.
Это была игра настоящего вдохновения, когда торжество звуков музыки органически сливалось с мастерством и убеждениями исполнителя и значимостью играемого сочинения.
Со своей стороны и я чувствовал себя как бы застигнутым врасплох: ведь до того мне не приходилось слышать скрипичного исполнения вживую, а музыка была такой энергичной и красивой, что я сразу покорился ей, уйдя в себя.
Тратя буквально мгновения на переходы к другим пьесам, он сыграл подряд ещё несколько вещей, на мой взгляд, столь же изумительно роскошных и покоряющих.
Он и в самом деле слышал, как я упражнялся в избе. Удерживая в одной руке инструмент, а в другой смычок и ловко управляя своими вопросами и моими пространными, сбивчивыми ответами на них, он как старому знакомому изложил мне своё впечатление от моих потуг.
Выходило примерно то же, что я слышал от мамы, только более обстоятельно отмотивированное. Он похвалил меня за старание и даже за то, что я изрядно не уверен в себе, так что это может замечаться посторонними, но – нисколько не стыжусь этой своей неуверенности. Упражнения же признал полезными в том смысле, что они связаны с моим ещё недостаточно зрелым возрастом и годятся как средство моего самостоятельного развития, более духовного, чем физического.
Столь откровенные и главное: уместные пояснения глубоко запали мне в душу. Нет, кажется, большего удовольствия в общении, как то, когда тебя понимают и при этом намерены помочь тебе от всего сердца.
Куда-то скрипач заспешил, и мы расстались. Отойдя от берёз, он прошёл по проезжей части улицы до переулка, который вёл к улице, параллельной нашей, где в одном строении размещались колхозная администрация и сельсовет, а вблизи, в другом, почти напротив – школа.
В мыслях мне, конечно, хотелось благодарить нечаянно объявившегося пришельца, который мог быть опытным учителем музыки. Во мне полыхало нечто, перестававшее быть закрытым и даже загадочным для меня, выражавшее процесс формирования меня как личности, в том его виде, когда в нём участвую не только я, но и другие.
Музыкант явно имел встречи в указанных местах, и теперь, опять направляясь туда, мог, вероятно, что-то сообщить там обо мне, о моей необычной или даже странной манере усовершенствования себя собственными силами – раз для этого недостаточны возможности обязательного государственного образования и воспитания…
Сведения такого рода могли быть по-особенному ценными прежде всего для моего уважаемого первого учителя, как педагога, в то время всё ещё продолжавшего вести учебные занятия и остававшегося директором учреждения; ведь это он на официальном уровне, в ограниченных условиях идеологизации школы, немало способствовал упорядочению во мне чувства личного достоинства и добротной житейской осмотрительности…
Замечания скрипача были тут неплохой добавкой: для меня они служили важным средством утвердиться в понимании прекрасного, не только в музыке, а всюду, где ему отводится своя ниша.
Нельзя было упустить шанс такого утверждения, поскольку речь в данном случае должна была заходить о соотношении прекрасного и свободы в нём, в разы усиливающей его воздействие на чувства… Того, как всегда, требовало само время: несмотря на гигантские трудности, оно диктовало свои альтернативы в познании свободы, пригодные в обстоятельствах неизбежных и нелегко предсказуемых общественных перемен, что особенно актуально при переходе от войны к миру…
Да, война завершалась, и теперь так же, как и в её тяжелейшие годы и дни становилось необходимым составить представление о смысле пережито́го, о принесённых безмерных жертвах, – насколько они могли соотноситься с лучшими надеждами и оправдываться получаемой реальной свободой.
Многое здесь предстояло подметить не только искушёнными взрослым, какие бы страдания на них ни сваливались, а – непременно и нам, детям, поскольку то, что с нами случалось, мы воспринимали больше не умом, не впрямую – через наставления, а чувствами, превосходя взрослых умением воспринимать происходящее непосредственно, как неприукрашенное и никем-ничем не прикрытое, стало быть, тут по-другому являлась нам и мера самой свободы, о чём мы могли задумываться, утыкаясь в совершенно реальные, а не бравшиеся как бы напрокат её ограничения…
Ход войны, ввиду её продолжительности и масштабов, был приведён в такое состояние суровой стабильности, что уже и при её конце как бы недоставало указаний на изменения в её характере и в особенностях того, что от неё должно было зависеть.
Так же, как и на её первом этапе, торопились на запад эшелоны с грузами ленд-лиза и с наскоро сформированными воинскими командами, готовыми сразу по прибытии к линии фронта вступить в боевые действия. Также оттуда шли похоронки и возвращались побывавшие на передовой, а затем в госпиталях – искалеченные. Не переставали течь горькие слёзы матерей и вдов, отчаявшихся надеяться. То же глухое и мрачное неведение родных и близких о пропавших бе́з вести. Тот же каторжный труд населения, где из-за убыли мужского состава всё более преобладающим по численности становился женский. И те же преследования за оплошности, по которым репрессивные государственные органы без труда могли клепать срок за измену, отсутствие патриотизма и другие звучные провинности, рассылая осуждённых в трудовые лагеря, спецпоселения и полевые штрафные батальоны…
Было такое ощущение, что страна не остановится в военном запале и в угаре неистребимого самоедства и готова терзать свои силы, направляя их куда-то дальше, неведомо куда, не предполагая, как должно резко всё меняться после, когда прозвучат последние выстрелы.
В этом смысле финиш абсурда в виде наконец-то добытой победы был воспринят почти как неожиданный. В нём довлело, кажется, определённое непонимание людьми того, что с ними случилось, ради чего они переносили и перенесли выпавшие на их долю страдания и даже ужасы.
Сообщаю об этом с чувством, что, скорее всего, я не вполне прав. Но вот простой факт из жизни нашей сельской общи́ны конца того апреля, когда уже почти пал Берлин: правление местного колхоза передало следствию материал о хищении молока на ферме труженицей хозяйства. Её муж пропал бе́з вести ещё при начале войны и пала единственная надёжная кормилица – корова, а у неё детворы – пятеро…
Того молока всего-то и похищено было, кажется, ведра полтора за два с лишним месяца, и обойдись всё в пределах «тайны села», ни о каком обвинении не могло бы быть и речи; но тут всё решил донос; – «не заметить» убытка уже не представлялось возможным, поскольку теперь мог появиться ещё один подозреваемый – укрыватель.
Помню, что заминку в общи́не вызвало оповещение о подписания акта о безоговорочной капитуляции третьего рейха.
Хотя новость уже облетела весь мир, а в село её наскоро доставил из райцентра один из местных жителей, оказавшийся там с повозкою, да она, вероятно, поступила и по единственному телефону, официальное оповещение о ней состоялось только спустя два дня, с приездом в село специального уполномоченного…
Детям свойственно не обращать внимания на такие проколы взрослых. Мы бегали к железнодорожному переезду, привлекаемые шумным излиянием радости проезжавшими в поездах пассажирами и теми, кто сопровождал грузы или относился к военным. На наши крики в нашу сторону из вагонов и платформ летели предметы, какие можно было считать подарочными: мелкие денежные купюры, бритвенные лезвия, печенюшки, отломки хлеба, даже конфеты в обёртке.
Возвращаясь на свои улицы, ребята дружно обсуждали, кто чего успел ухватить на лету или найти на насыпи. Наша радость не имела границ, чего нельзя было сказать о взрослых.
Теперь, убедившись, что всё обходится без подвохов, многие из них выглядели как никогда усталыми и отрешёнными. Опустошение, вызывавшееся уяснением огромного события, входило глубоко в души. Женщины плакали навзрыд, не имея сил успокоиться. Радоваться всё ещё не торопились, ведь колхоз продолжал работать в режиме прежнего, военного времени; указания о переходе к мирному укладу, должны были поступать из властных инстанций, но они – запаздывали.
Только спустя недели полторы состояние, подобное оторопи, начинало сглаживаться и проходить, но – медленно, – ввиду задержки демобилизации.
Воинскую службу оставляла только совсем небольшая часть призванных на неё, так что ожидание, исходившее ото всех, продолжало оставаться насторожённым или даже тревожным; – не доверявшие похоронкам и уведомлениям о пропаже бе́з вести по-прежнему испытывали сильное волнение, когда разносился слух, будто кто-то кого-то видел из проходивших по селу, в военной форме, но уже без погон.
Отдельные несчастные женщины, всё ещё надеясь на чудо, не переставали выходить к железной дороге, чтобы у неё постоять, пропуская едущие поезда, и в очередной раз вернуться домой ни с чем к уже подросшим детям.
Наша мать была в числе таких, надеявшихся. Раньше, в войну она брала с собой кого-нибудь из нас, меньших сыновей, но с объявлением победы выходила одна, позволяя нам наведываться к поездам уже без неё, самим или в составе ватажек ребят, охочих разжиться там случайной мелочью…
По моим наблюдениям и догадкам, мама постоянно на протяжении дневного или ночного времени чутко вслушивалась в паровозные гудки проезжавших поездов, где бы она ни находилась, дома или на работе, даже, возможно, когда спала.
Гудки, ближние или дальние от села имели ту особенность, что имели звучание резкое, на высоких нотах, и они разносились окрест в их цельности или даже, я бы сказал: прицельности, особенно в тихую погоду или – как доставляемые ветром, что существенно отличало их от сигналов уже другого исторического времени – тепловозных или электровозных, звучащих на низких нотах и оттого легко размывающихся, – когда слабеет или вовсе теряется их адресовка…
Умение слушать эти звуки, мне казалось важным, так как в них каждый раз могло различаться иное их интонирование, – сообразно вестям, какие приходили вместе с ними.

