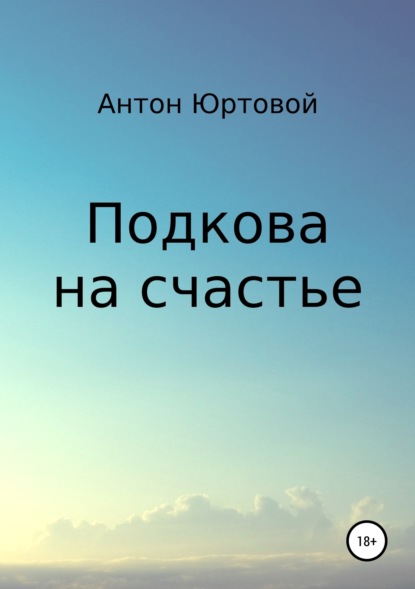 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
В годы войны это были сообщения грозные и угрюмые, проникавшие глубоко в сознание и бередившие там любую мысль, если она склонялась к неоправданной розовой надежде или к беспечной расслабленности.
По-другому обстояло дело теперь, когда враг повержен. В гудках тянулось и развёрстывалось непрерывное осветляющее ликование и восторг, обращённые ко всему, что было в состоянии реагировать на звуковые сигналы.
Также многое значила сила звуков, которая зависела от расстояния.
Я приходил к мысли, что любой паровозный гудок, мог, как подаваемый при движении поезда, указывать на точное место нахождения паровоза, а также следовавших за ним вагонов или платформ – в каждую очередную секунду их перемещения. Представление об этом явлении могли или даже непременно должны были иметь также обходчики и ремонтники путей, равно как им надлежало хорошо ориентироваться и в звучаниях рельсов, когда металлом фиксируются и передаются в обе стороны проседания и подъёмы движущейся массы и стуки колёсных пар…
К гудкам локомотивов, к их, так сказать, палитре, я привыкал прислушиваться, имея в виду их восприятие матерью. Мне становилось понятным, что оно, её восприятие, не изменилось и продолжает угнетать её, как это было и в тяжелейшие военные годы…
Первые месяцы мира, если не считать некоторых странностей самого его начала, помнятся мне издержками той головокружительной радости, какая, казалось, витала в воздухе при одном касании темы совсем недавнего бедового прошлого, тылового или фронтового, и широко открывала шлюзы к разного рода соблазнам, так что иногда тот или иной человек, поддаваясь общей эйфории перемен, будто прямо на глазах менялся в облике, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.
В селе появлялись пришлые люди, готовые порассказывать о неких своих заслугах перед отечеством, часто сильно преувеличенных или попросту надуманных. Возбуждаясь водкою, они вели себя шумно и почти дерзко. Урезонивать их никто не осмеливался.
В некоторых дворах эта публика гуляла целыми днями, втягивая в беспечное времяпрепровождение местных, то есть – отрывая их от работы.
Естественно, колхозу это выходило в убыток. Уже бывая к тому времени на выездах в райцентре, я имел возможность наблюдать жизнь при тамошнем железнодорожном вокзале.
Вовсю она кипела в ресторане, который люди охотно посещали при долгом ожидании нужных им поездов. Случались забеги сюда пассажиров и при остановках, на каких-то полчаса-час.
Становилась весьма заметной их склонность к неумеренности в потреблении спиртного, из-за чего нередко пассажиры отставали от своих поездов. Неумеренность показывали в том числе офицеры, каких было совсем пока немного в проезжавшей массе.
Шиковать им позволяло приличное денежное фронтовое довольствие, от которого в случае увольнения в запас или как командированным шло начисление выплат на время пути, а оно занимало к нашим краям иногда недели… Я несколько раз видел офицеров, лежащих и спящих у стен вокзала на перроне или в ближайшем сквере, там, где они свалились, будучи пьяными в стельку. Локальные лужи под ними выдавали их никому теперь не нужную удаль. Милиция и военные патрули к ним не подходили.
Пьянки в подобном виде указывали на некую раскованность и разболтанность, уже допускавшиеся с приходом мирных дней, и это был, видимо, тот случай, когда в самом начале всплеск неумеренной увлечённости винными напитками следовало взять под особое официальное да и общественное подозрение, – дабы она не обернулась своими худшими проявлениями в будущем…
Очень скоро ситуация в регионе приобрела тревожность военного образца. Шла подготовка к войне с Японией. Наше село оказывалось одним из ближайших к границе населённым пунктом. Войска подходили сюда с востока, от Сихотэ-Алиня, со стороны пролегавшей у его подножий магистральной автотрассы, и размещались в ближайших лесках и увалах, где ставили палатки и ждали приказов.
В одну из августовских ночей всё пришло в движение. По нашей улице молча и сосредоточенно прошли в сторону железнодорожного переезда подразделения пехоты и других родов войск. На конной тяге тащились обозы. Им предстоял нелёгкий путь по сильно заболоченной местности, – такой переход был избран вероятно как соответствовавший плану, рассчитанному на неожиданность…
В избах никто не спал; выходили во дворы и из калиток на улицу, чтобы проводить уходивших… К утру и с наступлением дня колонны всё прибывали, а те, которые составили авангард, видимо уже вошли в соприкосновение с противником: оттуда, со стороны реки, обозначавшей государственную границу, были слышны упругие, раскатистые пулемётные очереди.
К тому времени от Сихотэ-Алиня начали артподготовку дальнобойные орудия, очевидно большого калибра, о чём можно было судить по характерному звучанию снарядов, пролетающих в небе, над головой, – в нём соединялось отчётливое шелестение с лёгким скользящим подсвистом. Стрельба велась и отдельными орудиями, и – залпами.
На другом берегу реки слышались тяжёлые разрывы, приглушаемые расстоянием. Это снаряды накрывали цели на вражеской территории.
Ребятне в эти дни было не усидеть по домам. Мы, а с нами и взрослые, выходили навстречу колоннам, угощая военных холодной, только из колодца, водой, помидорами и огурцами с огородов, молоком, яйцами; растроганные этим вниманием служивые одаривали нас хлебом.
В поле нашего зрения оказались места, где войсковые соединения задерживались на постоях и уже сняли́сь, уйдя в направлении к границе. Там нашлось много любопытного. Бойцам, как выходило, нелегко давались часы в ожидании команд о снятии. Многие не могли уснуть, бодрствовали, одолеваемые тревожными раздумьями, – ведь речь шла о скорых военных действиях, самых настоящих, в которых возможно всё… Наверное были и растерянные, даже испуганные.
Неожиданно поднятые по тревоге, они могли вести себя неадекватно, на что указывали забытые из-за неумеренного волнения или по рассеянности предметы: крышка от алюминиевого котелка или сам котелок, поясной солдатский ремень, креса́ло, начатая пачка махорки, полотенце, мыло, даже обойма с винтовочными патронами…
Так вот бывает в преддверии боёв, что бы там ни говорить о патриотизме и других подобных «высоких» вещах.
Одна из вылазок на оставленные войсками места временного пребывания памятна по-особенному. Мы зашли далеко за переезд железной дороги, дальше уже упомянутого мною дота; с небольшого склона, поросшего редкими невысокими деревцами, где недавно размещался лагерь, перед нами открывалась ровная, до самого горизонта, местность, та её часть, которая оставалась нехоженой из-за непроходимости, – в отличие от сектора чуть левее, использованного для передвижения военными.
Мы кое-что нашли из забытых ими предметов, как вдруг со стороны границы послышался гул, и вскоре над равниною закружили самолёты, наши и японские. Завязался воздушный бой с уханьем пушек, стрёкотом пулемётов и натужным рёвом моторов.
Самолёты взмывали, устремлялись вниз и кружили, кажется, несколько минут. Четыре из них, два наших и два вражеских, настолько приблизились к месту, где мы находились, что нам были хорошо видны лётчики и знаки на крыльях и фюзеляжах. Одна из пулемётных очередей врезалась в землю буквально у наших ног. Следом, чуть поо́даль разорвался пушечный снаряд.
Мы оторопели и, ждали, чем всё кончится, не получив никаких повреждений. И в небе никто никого не подбил.
Наверное в баках самолётов было на исходе горючее, потому как они повернули к границе, сначала японские, а за ними, преследуя их, остальные.
Что там случилась за ситуация, при которой японские зе́ро смогли залететь на советскую территорию при почти мгновенном прорыве армейскими силами пограничных вражеских укреплений и быстром захвате плацдармов далеко в глубоком тылу у противника, наши доблестные военные, может, и знали, но в мемуарах о подобном никто не сказал ни слова…
В селе обсуждение события по горячим следам шло бурное. Основной к тому повод давали, конечно, мы, пацаны: нам-то, мол, чего вздумалось оказаться под крыльями и огнём ревущих машин!
На участке нашего села война этими событиями и закончилась. Умолкли дальнобойные орудия. Прекратилось выдвижение к границе воинских частей. Стремительное наступление разворачивалось ими на других направлениях. Хотя ещё долго со стороны границы были слышны пулемётные очереди. Это ожесточённо отстреливались окруженные, засевшие в мощных укреплениях, японские смертники, не желавшие сдаваться в плен. Во избежание лишних потерь их не штурмовали…
Скоро выяснилось, насколько была опасной угроза вторжения, если бы враг упредил нас. В райцентре на берегу реки я видел огромные орудийные стволы. Сюда их доставили с позиций противника, где советские разведчики успели захватить и обесточить артиллерийские установки, стволами нацеленные на протяжённый железнодорожный мост у самого райцентра.
Будь произведён хотя бы один залп из этого смертельного комплекса, мост был бы разрушен до основания, что вело бы вероятно к весьма длительной остановке движения поездов на транссибирской магистрали.
На другой площадке в райцентре накапливались горы металлолома – всё, что оставалось от уничтоженных вражеских средств вооружения, транспорта и спецконструкций. Металлолом следовало отправить по железной дороге на металлургические заводы – на переплавку.
Следы войны встречались часто. Как-то в составе ребячьей ватажки довелось добраться до магистрального шоссе. Туда от села почти пять километров. У самого перекрёстка обочины трассы были уставлены деревянными ящиками, в которых мы обнаружили мины. Поёживаясь от страха, мы не рискнули притронуться хотя бы к одной. Никакой охраны или присмотра за этим добром не было. По всей видимости, мины не понадобились, а теперь они тем более становились никому не нужны…
Привлекали трофеи – продовольственные или в виде воинского обмундирования. Мой самый старший брат зазвал меня в райцентр поучаствовать в добыче продуктов и вещей трофейного ассортимента. Для меня это было заманчиво и странно, ведь жизнь в селе по-прежнему протекала в нищете и впроголодь.
Склады, куда прибывали крупные партии захваченных у врага пищевых продуктов, обуви или одежды, буквально ломились от их переизбытка. Даже рассортировать и учесть эту прираставшую массу оказывалось непросто. Многое хранилось навалом под открытым небом и обрекалось порче. Охрана была вооружённой, однако стражи, сочувствуя населению, вяло реагировали на растаскивание добра, правда не днём, а только ночью и то – лишь пугая возможных расхитителей холостыми выстрелами.
Брат хорошо знал тут все подходы. Ночью, наказав мне дожидаться его у какой-то довольно высокой дощатой изгороди, он ловко перемахнул через неё и скрылся в темноте. Пожалуй, с полчаса он отсутствовал. Было тихо и загадочно: чем всё может кончиться? То, что брат принёс, казалось мне целым состоянием: полные карманы риса, галеты из рисовой муки, маленькие цветные шарики леденцов, банка рыбных консервов, солдатская шапка на меху, с ушными клапанами. Куда же было взять больше!
Себе брат оставил малость галет с леденцами да шапку, сказав, что носить её ни мне, ни ему не пристало, он предложит её кому-нибудь на работе или снесёт на барахолку.
Я восхищался братом и дома во всех подробностях рассказал о нашей с ним таинственной вылазке. Она была для меня единственной, поскольку вскоре стало известно об ужесточении режима охраны изобильных складов; кого-то, кажется, поймали, подстрелив настоящими…
Впечатления от короткой войны, а точнее от её примет, воспринятых мною вблизи, в частности о воздушном бое почти над самым селом, долго и отчётливо держались во мне, образуя состояние какого-то значительного моего соучастия в масштабных событиях.
Они вплетались в общую ткань моей детской восприимчивости, дававшей мне возможность самому различать в том, что совершалось рядом или прямо на моих глазах, некие целевые во времени действия и движения, смыслом и необходимостью которых должно было негласно, по умолчанию, оправдываться крайнее истощение сил местной общи́ны. Моих ли – в том числе, – об этом не думалось…
Я не мог рассматривать себя как обиженного и страдающего, убеждаясь на примере в первую очередь своей матери, насколько могут быть велики терпение и ровное, пусть и тяжёлое спокойствие перед лицом происходящего неумолимо…
Я счёл нужным поделиться такими соображениями не со своими близкими, а на бумаге, при написании экзаменационного изложения, когда заканчивалась моя учёба в местной школе, в её последнем, четвёртом классе. Тему, правда, пришлось ужать; в достаточных подробностях мне удалось описать только наблюдаемый мною воздушный бой.
Учитель отнёсся к этому опусу с нескрываемым интересом и похвалил меня за мои старательность и выбор. Нам обоим было грустно, когда он выдавал мне свидетельство об окончании школы: в тот год я оказывался единственным её выпускником.
Данное печальное обстоятельство, как следовало его понимать, отражало степень той самой истощённости сил сельской общи́ны, зависевшей от многого внешнего… Мне же предстояло учиться дальше…
Этот новый этап моей жизни протекал уже в иных условиях, и они резко отличались от тех, какие окружали меня в сельском глухом захолустье, хотя с домом я был по-прежнему связан. Семилетняя школа, в которую я поступил, находилась в отдалении. Я поселился в крохотной отдельной комнатке в деревянном бараке при железнодорожной станции, где она была выделена моему самому старшему брату, к тому времени перебравшемуся туда работать.
Его занятие сводилось к каким-то бесконечным разъездам в спецпоездах, когда он отсутствовал неделями. То есть – я его как бы и не стеснял. От села до станции около тридцати километров, в другую сторону по железной дороге от райцентра, а до школы оттуда ещё семь, в посёлке, где размещалось паровозное депо.
Скромное пищевое обеспечение я привозил из дома, в связи с чем был вынужден постоянно наезжать в своё село, причём только раз в неделю, когда не проводились уроки, то есть – по воскресеньям, само собой, и – в каникулы.
Пристраивая меня как подселенца и тем самым входя в моё положение, брат имел в виду, что мне решительно необходимо не останавливаться в учёбе, продолжать её, хотя бы и в трудных обстоятельствах. Резон здесь был тот, что в те годы безвы́ездное проживание в селе могло закончиться для любого взрослевшего отрока неподобающе: ему не выдавали па́спорта.
То есть – он обрекался оставаться здесь и работать в колхозе, каким бы тот ни был несостоятельным по производительности и в оплате труда. Быкам хвосты крутить, как говорили о такой невзрачной перспективе. Что это значило, я видел сам.
К весне, когда корма в хозяйстве, как правило, заканчивались и их расходовали ограниченно и скупо, его скот чувствовал себя не лучшим образом. Обессилевшие и исхудавшие животные падали там, где стояли, и – уже не могли подняться. Битьё хворостиной, ремнём или плёткой результата не приносило. Единственный эффективный метод заставить скотину подняться состоял в том, чтобы накрутить ей хвоста.
Из копытных напрочь обессиливали и уже погибали коровы и лошади. Они не реагировали даже на острую, невыносимую боль – при заламывании хвоста, то есть собственно костной ткани. А вот у спокойных и непривередливых волов сил, чтобы продолжать жить, иногда оказывалось ещё достаточно. Причиняемая им резкая боль в месте, где подвижная конечность отходила от туловища, заставляла бедолаг хотя и не сразу и медленно, дрожа, подниматься на ослабевшие ноги…
Немного проку от такой животи́ны, но по крайней мере, если изыскать, чем её подкормить и вволю напоить, она была способна уцелеть в бескормицу, повторявшуюся ежегодно… Из такого досадного опыта и поговорка…
Хотя до того, как мне пришлось бы определяться со своим взрослым будущим, было ещё далеко, всё же следовало знать и не забывать об этом. Тем более, что тогдашняя сельская действительность на каждом шагу указывала на невозможность обосноваться в ней сообразно собственному выбору.
Выбор если и был, то ограниченный, узкий; в нём не различалось никакого престижа, – когда исключалось достойное приложение интеллектуальных способностей – мерила непосредственной свободы…
Не вполне патриотичное пояснение, но что же поделать…
Семилетняя школа являлась для меня необычной в том отношении, что посещающих её набиралось, что называется, под завязку. Учащиеся, в числе которых были и переростки, не рисковали пропустить эту образовательную ступень, поскольку прошедшие её имели перспективу учиться не только в средней школе, но и в техникумах, где диплом об окончании учёбы приравнивался к аттестату зрелости, да ещё можно было рассчитывать и на получение стипендии.
В селе для многих не находилось способов, как оторваться от родного порога и пристроиться к учёбе, чтобы её продолжить после начального курса; мешала и исходившая отсюда беспечность, а с нею и лень: проживём, дескать, и не учась, как то оставалось в сельских поселениях в порядке вещей уже и при значительных общественных переменах…
Брат, приютивший меня в бараке, имел основания, как потёршийся в интернате, пусть и в совершенно скромном виде поддержать меня. Он помнил, как по приезде из Малоро́ссии родители, несмотря на нищету семьи сумели поддержать его́, – иначе бы его ждала судьба односельчан одного с ним возраста, из которых, кроме него, все оставались при месте, как беспаспортные…
Начальный этап моего пребывания в новом для меня заведении отложился в моей памяти как имевший все признаки невзрачной, тусклой будничности. Уроки, как я замечал, проходили вяло, уныло, стандартно сухо. В учителях будто тлело какое-то естественное безразличие и отрешение, отчего и ученики не стремились быть внимательными. Близко сидя за партой у окна, я часто и подолгу бесцельно глядел в него, наглухо уходя в себя и не услеживая нитей истин, излагавшихся учителями, и скомканных ответов моих товарищей при их опросах.
До холодов при ясной погоде перемены принято было проводить на школьном дворе, где только некоторые из учащихся вели себя более-менее оживлённо, остальные – скучали, даже не пробуя встряхнуться.
В классе, куда я был принят, насчитывалось около сорока учащихся – полнейшая противоположность того, к чему я привыкал, посещая начальную школу.
Выделиться здесь никто особенно не стремился, довольствуясь самой возможностью учиться. Но, как и всегда и всюду, классная среда имела свою палитру, своих заводил, угодников и правдолюбов. Мне нелегко было вжиться в эту среду, однако скоро я со многими подружился, правда, отнюдь не на почве внутренних, классных предпочтений, хотя учитывались, конечно, и они.
Добрая половина учеников, как и я, добирались до школы со станционного посёлка, и это требовало определённой спайки. Использовались разные варианты преодоления значительного расстояния. Первый, который я выбрал, ещё не владея ситуацией, состоял в пешей ходьбе по шпалам, в одиночку, что не было для меня в новинку. Я знал, как соблюдать осторожность, когда сзади или спереди меня появлялся движущийся паровоз.
Поблизости от депо находились несколько путей, вдоль которых тянулись штабеля каменного угля – запасы для загрузки в паровозные те́ндеры. Одна из путей отворачивала в сторону и заканчивалась тупиком. Туда отгонялись локомотивы – для опробования их систем после ремонта, выгрузки топочного шлака и профилактики.
Какой-нибудь локомотив всегда стоял в тупике, сипло звуча паровыми клапанами, временами шумно выпуская пар и подавая пробные гудки…
В угольных штабелях я сразу обратил внимание на куски тонких медных проводков, – это были остатки соединений, какими пользовались шахтёры, закладывая в шпуры́ заряды при отпалке угля в забоях. Я быстро нашёл им применение, скручивая дольки проводков в маленькие колечки-спиральки.
Уже через каких-то пару дней я показал одной из девочек и вручил ей блестящую цепочку из этих колец. Заиметь такое простенькое и по-своему достаточно изящное изделие захотели и другие ученицы. Оказывалось, никто из ребят, знавших, где брать проводки, не догадались до такого их применения…
Другой вариант продвижения к школе – грунтовая дорога вдоль железнодорожной насыпи. Она имела большие выбоины, заполнявшиеся водой в сырую погоду, а если подсыхала, то сильно пылила при проезде по ней грузовых автомашин, особенно – при ветре. И тем не менее данный маршрут пользовался популярностью школяров.
Грунтовку от полотна железной дороги отделяла приличной ширины полоса, поросшая травой и кустарником. Она-то и приманивала ходоков. Ступая на неё, ребятня разделялась на два лагеря, и начинались азартные забавы с преследованиями, борьбой, толкотнёй и общим невообразимым шумом и криками.
Разделение шло по наличию или отсутствию хлястиков на одеждах. Первыми такой способ скрашивания пути ввели ученики, уже закончившие школу и покинувшие её. Но традиция осталась. Новички, такие, каким был я, сразу охотно включались в игру, поскольку в ней оттачивались нужные всем приёмы искренней, активной общительности, взаимовыручки и доброжелательства.
Само собой, доходило до того, что кому-нибудь отрывали хлястик, в кровь разбивали нос, кто-то, орудуя сумкой со своими принадлежностями, недосчитывался учебника или тетрадки. Всё восполнялось необыкновенным оживлением и весельем, вовсе, кстати, не мешавшим учебному процессу.
Наслышанные о забавах «сторонних» учащихся, то есть – приходивших «от» станционного посёлка, учителя отмечали в целом несомненную пользу от таких бурных встрясок, достававшихся их подопечным. Тем более, что ни единого раза игровые потасовки не перерастали в настоящие драки или в последующую вражду, а, кроме того, «сторонних», как находившихся подолгу на свежем воздухе, на протяжении всего учебного года, обходила простуда…
Рассказывая об этом интересном явлении, я, разумеется, имею в виду, что участие в нём принимали в основном мальчишки; девочкам, также совершавшим дальние ежедневные переходы, отводилась роль пристрастных наблюдателей, и только в редких случаях какая-либо из них, не умея сдержать себя, включалась в потешные развлечения.
Зимой, когда выпадало много снега, пустырь терял свою притягательность, но зато влекла к себе уже сама дорога, грунтовка. Уплотнённый автомашинами снег на ней служил хорошим катком: став на коньки и уцепившись крюком из проволоки за борт пробегавшего грузовика, можно было добраться до школы быстрее обычного…
Транссибирская железнодорожная магистраль пролегала неподалёку от деповского комплекса, огибая его, а в одном месте она подходила к окраине здешнего посёлка; оттуда – близко до школы. Ученики, добиравшиеся до неё, не прочь были воспользоваться поездной тягой.
Заметив на станции грузовой поезд, готовый вот-вот отправиться по нужному тебе направлению, незаметно подкрадываешься к нему, но не спешишь, опасаясь вооружённого охранного сопровождения, и как только состав начинает двигаться, вскакиваешь на ближайшую свободную переходную площадку, вагонную или платформенную. Поехали.
Скорость поезда немалая. Но там, у окраины деповского посёлка, ему предстояло двигаться медленнее, так как магистраль шла на подъём. То, что надо. Прыгали безбоязненно. Со ступеньки следовало соскочить, и, уже коснувшись насыпи ногами, какое-то мгновение держаться за поручень, чтобы чувствовать, как мягче упасть…
Пассажирские поезда для этого не подходили, поскольку шли на большой скорости и её почти не сбавляли, а единственный пригородный, делавший там краткую остановку, проезжал ночью. Возвращение со школы уже не располагало к выбору способа, как добраться домой. Лишь бы поскорее.
Все три года, когда я обучался в семилетке, время занятий нашему классу выпадало послеобеденное, то есть – во вторую смену. Так дирекция учитывала положение «сторонних»: выбираться по утрам и́з дому чуть ли не за два часа до начала занятий, как то у нас выходило в середине дня, для многих могло оборачиваться недосыпанием и систематическими опозданиями…
Вечером, после уроков держались кучкой и в основном ходили пешком. Иногда вводились дополнительные занятия, и они заканчивались поздно, часов около десяти, с расчётом, что ребятню заберёт возвращавшийся на станцию пригородный.
Вагоны тогда наполнялись гамом и суетой; школьники, что повзрослее, отваживались на курение табака. За это вольное поведение проводники не очень нас жаловали, тем более что мы норовили проехаться, не заплатив. Было несколько случаев, когда нас не брали…
Комнатка в бараке имела высоко поднятое по стене крохотное оконце, недоступное для солнечных лучей. Зато было электричество, хотя и ограниченное – по три часа утром и вечером. Брат разжился электрической плиткой с открытой нагревательной спиралью. Кроме неё, в комнате имелась плита с небольшим обогревателем. Топить её для приготовления еды и утепления поручалось мне.
В позднее вечернее время, осторожно обходя освещённые прожекторами места, я пробирался в охраняемый пристанционный угольный склад и тихо нагребал там ведро кусковатого топлива. Этого едва хватало на один истоп. Зимой, при моих отъездах в своё село, комната быстро остужалась…

