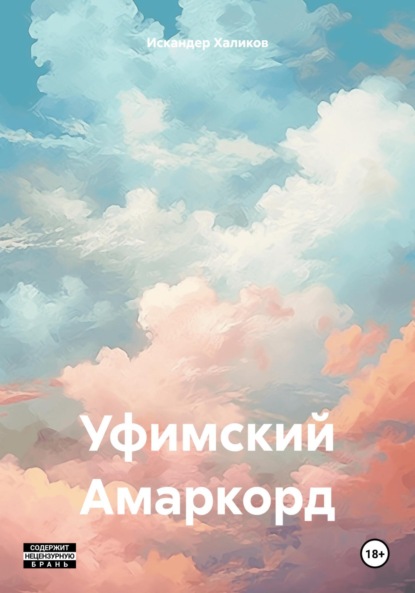
Полная версия:
Уфимский Амаркорд
Разгружались мы ночью. Сначала у военного причала стали и «трофей» выгрузили. А уж потом ушли на грузовой. И там всё остальное у нас забрали.
Перед тем, как команде разрешили сойти на берег особист портовый и наш помполит с нами долго общались. Болтали нам про государственную тайну и про то, какие бывают последствия за её разглашение. А какая может быть тайна? Мы ещё в пути у Сени по «вражьему голосу» всё про свои «подвиги» услышали. Там они ничего не приврали. Всё как есть… Ну, вернее, как было поведали. Только про моё геройство, с которым я их вертолёты шуганул – про это умолчали.
Вот такая история.
* * *
Мы ни разу не перебили рассказ Кузьмы Захаровича. Когда он закончил, мне показалось, что я держу в руках не значок, а нечто исторически ценное. Вроде осколка от снаряда с войны. Я даже не хотел расставаться с ним и вешать его на вымпел рядом с другими значками.
Но тут моя мама сказала фразу, после которой у меня сердце в пятки ушло:
– Ну, что вы, Кузьма Захарович. Мы не можем принять от вас такой дорогой подарок. Ведь это такая память для вас.
– Да бросьте, – махнул рукой Кузьма Захарович, – у меня о том плавании есть память. Правда, Лиля?
Он подмигнул своей жене. Лилия Асхатовна заулыбалась:
– Сразу после возвращения капитан корабля Владимир Михайлович написал в пароходство представление на Кузьму. К Ордену «Знак Почёта». За проявление гражданской доблести. На единственного из команды.
– Ага, на единственного из команды, кто доблестно с топором по палубе бегал, – улыбаясь, вставил Кульма Захарович.
– И на следующий год, – не обращая на него внимания, продолжила Лилия Асхатовна, – в День Флота, Кузьму этим Орденом наградили. Так что память о том плавании у нас есть.
Тут у меня от сердца отлегло и я сразу, пока мама не придумала ещё что-нибудь, подбежал к вымпелу и прицепил на него значок.
Потом я каждый день в течение месяца снимал его с вымпела и рассматривал, вспоминая в деталях рассказ Кузьмы Захаровича. Все мои дворовые друзья знали про значок и про историю, связанную с ним.
Мы подружились с семьей Бородко. Переписывались с ними и посылали друг другу открытки на праздники. Даже несколько раз летом ездили к ним в Одессу в гости.
С тех пор прошло много лет. Распался Советский Союз, мы стали жить в разных странах и вообще в другом измерении. Переписка со всеми друзьями семьи из других городов как-то сама собой стала сходить на нет. Я перестал заниматься своей коллекцией, полностью «ушёл» в бизнес, потом купил квартиру и стал жить отдельно. Коллекция осталась у мамы, хотя я всегда о ней помнил.
Однажды я узнал от маминых соседей, что Кузьма Захарович Бородко умер. Я не мог в это поверить. Красивый человек и храбрый моряк остался в моей памяти таким же, каким я его увидел в первый раз в далёком детстве. Работа подводников связана с частыми, порой очень большими перегрузками. Поэтому они рано и, как правило, тяжело уходят из жизни.
Потом не стало мамы…
Когда я перебирал фотографии, документы и прочие бумаги из маминого архива, я наткнулся на свою коллекцию значков. Вымпел уже давно не висел на стене. Он хранился в нижнем ящике письменного стола. Я сразу же стал искать значок MEXICO. Увы, я его не нашёл. У мамы в гостях бывало много людей. Но я не хотел и не хочу никого подозревать. Тем более, что сам «забросил» свою коллекцию.
Такие значки не исчезают бесследно. Рано или поздно они попадают в руки коллекционеров или знатоков. По крайней мере, мне хочется в это верить. Но эти люди могут не знать того, что связано с этим значком. И если они прочитают этот рассказ, то смогут вернуть ему его историю. Тем более, что значок этого заслуживает.
ВИТРАЖ
Головное предприятие объединения «Башторгреклама», отвечавшее в республике не только за двигатель торговли, но и за внешний облик населенных пунктов, было расположено в некогда барачном квартале Уфы на улице Социалистическая – одной из центральных в городе. Партийным и советским руководителям города даже в голову не приходило, что бараки и название улицы могут увязываться в сознании людей как некий неразрывный тандем политического строя и бытовой неустроенности.
Поскольку бизнеса, а соответственно и рекламы как PR–продукта тогда не было, «Башторгреклама» занималось в основном изготовлением и установкой агитационных конструкций и мозаичных панно на фасадах учреждений и предприятий, а также вывесок из объемных букв с неоновой подсветкой внутри. Используя их различные сочетания, люди как будто бы зашифровывали информацию о том, что в этих зданиях располагалось: «УМПО», «ЦНТИ», «ТКАНИ», «ГАСТРОНОМ», «ЦИРК», «ГЕОФИЗПРИБОР» и т.д.
Помимо этого работники «Башторгрекламы» в праздничные дни облачали столицу республики в полотнища красного кумача и развешивали повсюду портреты коммунистической «троицы». Единственный неидеологизированный праздник Новый год также не оставался без их участия. Ледяные крепости и скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, гирлянды на елях, крышах и стенах домов были делом их рук.
Контингент предприятия состоял в основном из неудавшихся или спившихся художников. Хотя следует признать, что понятия «неудавшийся художник» и «спившийся художник», по большому счету, всегда тождественны. Несмотря на запрет распития спиртных напитков на рабочем месте, сотрудники «Башторгрекламы», как впрочем и других организаций, не особо утруждали себя соблюдением этого производственного «табу».
Так, специалист по работе с пенопластом Венер Абдразакович, или Венер-абы, как все его называли, имел свой закуток-мастерскую. Долгое время руководство в лице главного инженера «Башторгрекламы» Гегеля Мазгаровича не могло понять как он умудрялся каждый день, не принося с собой спиртного и не выходя на обед за территорию предприятия, хмелеть часам к трем – четырем. Гегель Мазгарович пытался несколько дней каждые 10–15 минут заглядывать в коморку к Венеру-абы, надеясь «застукать» того во время возлияния. Когда же Венер-абы отлучался «по нужде», на его рабочем месте даже производился несанкционированный обыск. И ничего! Никаких улик – бутылок, пробок, стаканов. Только немытая банка с чаем, кипятильник и пиала. Закуски также не было обнаружено – исключительно конфеты и печенье. Но то, что Венер-абы «поддавал» сомнений не вызывало. Один раз Гегель Мазгарович даже застал его спящим, уткнувшимся лбом в рукоятку ножа прямо во время нарезания заглавной буквы «М» для заказанного к 1 Мая транспоранта «Мир! Труд! Май!». На торец рукоятки был заботливо подложен кусок пенопласта – чтобы было мягче упереться в него лбом. Из открытого рта Венера-абы свисал «шелкопряд» слюны, а сам он тихонько похрапывал.
Когда Гегель Мазгарович потряс спящего за плечо, тот вздрогнул, вскинул голову и, как будто он и не спал, стал продолжать резать заготовку. Типа вот, работаю.
Пробовал главный инженер обыскивать мужской туалет – сливной бочек, отверстие вентканала в стене. Всё мимо.
Вроде бы на работе Венера-абы его «хмельное пристрастие» никак не отражалось. Но у Гегеля Мазгаровича уже был не просто спортивный интерес, а бзик.
Главный инженер никому не рассказывал о своих попытках докопаться до истины. Так, на всякий случай: а вдруг он не сможет раскрыть секрет Венера–абы? Засмеют ведь все. Только семья Гегеля Мазгаровича была в курсе загадки резчика пенопласта. Превратившись в подобие команды знатоков из клуба «Что? Где? Когда?», жена и дети главного инженера старались помочь главе семейства «ответить на вопрос телезрителя», выдвигая различные версии. И тоже всегда мимо.
Сдал Венера-абы напарник, переехавший к нему в коморку в результате «уплотнения» рабочего пространства. Посчитав, что венеровская мастерня слишком мала для двоих, он пришел к Гегелю Мазгаровичу и поведал ему следующее. Каждый вечер Венер-абы уносил домой пустую банку из-под чая и утром приносил обратно полную. Но наполнена она была не чаем, а крепленым вином. Он ставил банку на стол, клал сверху для убедительности кипятильник и пил только из пиалы. Еще и с прихлебыванием, как будто чай был горячий. Что можно так пить из пиалы? Только чай. Расчет был прост, а потому работал безотказно. Банка была специально не мыта, с «чайными пятнами», которые скрывали следы винных капель и разводов. И всегда закрыта. Не от мух, а чтоб не было запаха.
Реакция Гегеля Мазгаровича последовала незамедлительно – он нашел повод и организовал увольнение «стукача». Скорее всего не смог простить ему легкости раскрытия тайны Венера-абы над которой он бился не один месяц. А самому «зашифрованному» любителю бормотухи главный инженер не сказал ни слова. Он даже почувствовал себя виноватым за то, что не смог самостоятельно, без чьей-либо помощи, докопаться до истины.
Вообще Гегель Мазгарович был человеком не злым по отношению к подчиненным. Он всегда старался «войти в положение», «пойти на встречу» и «отнестись с пониманием». Профсоюзный комитет имел в лице Гегеля Мазгаровича верного союзника. Его использовали как «тяжёлую артиллерию», когда дело касалось путевок в санаторий, места в яслях и детских садах, материальных поощрений работников предприятия. «Рабочий человек – это звучит гордо!» – любил повторять Гегель Мазгарович. «Доработав» известную фразу Сатина из пьесы Горького «На дне», он сделал ее своим жизненным постулатом.
Однако случай, произошедший во время установки витража в новом здании административного корпуса Уфимского ликеро-водочного завода, заставил его не просто пересмотреть данный постулат, но полностью изменить свое отношение к «гегемону».
* * *
Заказ от «ликерки» был большой. Фасад нового административного корпуса, в который должны были переехать дирекция, бухгалтерия, плановый отдел, партком и профком, предполагалось украсить цветным витражом. Он позволял использовать дневной свет и украшал лестничные пролеты сразу трех этажей. Художники предложили стандартный набор эскизов – космонавт в скафандре на фоне звезд и летящей к ним ракеты, грудастая колхозница с «тициановскими» бедрами на фоне поля и распахивающих его тракторов и, конечно же, всадник на коне, стреляющий на скаку из лука. Последний вариант был намеком на Салавата Юлаева – национального героя Башкирии, памятник которому давно стал неофициальным символом Уфы. Почти на всех открытках и календарях с видами столицы республики и даже на заставке республиканского телевидения было изображено творение скульптора Тавасиева – всадник, оседлавший неприлично маленького роста лошадь.
Проект был утвержден на самом верху – горком и горисполком никогда не оставались в стороне при решении вопросов, абсолютно не связанных с жизнью людей. Все согласования были произведены, техническая документация подготовлена. Производственное объединение «Салаватстекло» изготовило цветной «пазл» в необходимом масштабе. Работники «Башторгрекламы» сварили металлический несущий каркас. Словом, все было готово к установке. Гегель Мазгарович лично контролировал доставку заготовок к заказчику и ход подготовительных работ в целом. Для монтажа были отобраны опытные исполнители: Айрат Валиахметов, Эдуард Хомяков и Андрей Шалаев. Все трое не первый год работали в «Башторгрекламе». Первые двое были женаты, а Шалаев был комсоргом предприятия.
Несмотря на то, что старшим по возрасту и более опытным был Хомяков, бригадиром назначили Валиахметова. Потому что с Эдуардом была связана ставшая притчей история одного из его загулов.
Хома, как его звали приятели и коллеги по работе, несколько дней отпуска «не просыхал» и жена заперла его в квартире на девятом этаже, забрала с собой ключи, а сама уехала в сад. Все друзья и собутыльники возмущались коварством жены, но помочь ничем не могли. Хома, озарённый облегчением, которое было связано с окончанием похмельного синдрома, вызвонил на работе Гегеля Мазгаровича. Утаив алкогольную подоплеку семейного скандала, он в ярких красках описал ситуацию, в которой оказался. В его интерпретации жена была изображена такой бессердечной и жестокой, что главный инженер организовал спасательную операцию и сам принял в ней участие. Он снял с объекта высотную люльку и на ней же вместе с водителем отправился на выручку одному из лучших монтажников объединения.
На виду у всего Проспекта Октября, прямо напротив здания Горсовета и памятника Ленину, «зилок» с выдвижной спаренной люлькой снимал с балкона томящегося в лучах полуденного июльского солнца мужчину. В люльке наверх поднялся и Гегель Мазгарович. Он принял из рук Хомы авоську с пустыми бутылками и помог тому перебраться через перила. По пути вниз вызволенный из домашнего заточения монтажник поведал своему начальнику о коварстве жены и о том, как он истосковался по свободе. Однако жуткий перегар и внешний вид новоявленного Мцыри заставили главного инженера усомниться в изложенной версии событий, предшествовавших операции по освобождению. Сомнения усилились после того, как Хома попросил пять рублей до первой же после выхода из отпуска получки.
– Смотри, не загуляй! – протянул ему трешку Гегель Мазгарович.
– Обижаете! – взяв купюру, развел руками монтажник.
Абсолютно неправильно поняв, чем он обидел своего подчиненного, главный инженер покраснел, достал из бумажника еще два рубля и протянул их Хоме.
– Спасибо, Гегель Мазгарович! Как все-таки вы понимаете рабочего человека! – чуть не прослезился бывший пленник и направился к своим изумленным корешам, уже поджидавшим его чуть поодаль.
Перед тем, как отправить бригаду на объект, с монтажниками провели длительную беседу на которой говорили об ответственности за выполнение заказа, об оказанном им доверии и о чести предприятия. Уставший от нескончаемой морально-политической накачки Хома не выдержал и заявил, что принципом «как бы чего не вышло» должен руководствоваться не рабочий человек, а больной геморроем. Остальные монтажники горячо поддержали его. Гегель Мазгарович был удовлетворён тем, что беспокойство руководства по поводу репутации предприятия нашло понимание в бригаде. Тем не менее, памятный случай с вызволением Хомы из заточения удержал главного инженера от назначения того бригадиром.
* * *
Заезд к заказчику – ответственный момент, определяющий дальнейшее общение с ним при возникновении каких-либо проблем в процессе монтажа. Поэтому Гегель Мазгарович решил лично проконтролировать этот этап работы. В тентованном «ГАЗ–66», который принадлежал «Башторгрекламе» и был фактически служебным транспортом главного инженера, он вместе с монтажниками привез на Уфимский ликеро-водочный завод инструмент и расходные материалы. Ребятам по его просьбе выдали новую спецовку, сами они были чисто выбриты и выглядели как работники какого нибудь НИИ.
От «ликерки» ответственным за встречу представителей «Башторгрекламы» был назначен завпроизводством предприятия – должность, не уступающая по своему статусу главному инженеру. Этот факт придал знакомству представителей заказчика и подрядчика атмосферу «дружбы и сотрудничества», в которой, судя по выпускам информационной программы «Время», всегда проходили встречи руководителей государств социалистического лагеря.
– Дильфин Галямэвищ – с типичным башкирско-татарским акцентом представился завпроизводством и крепко пожал руку Гегелю Мазгаровичу, а затем всем монтажникам и водителю. «Над его именем, наверное, тоже посмеиваются тайком», – подумал Гегель Мазгарович и почувствовал настоящую симпатию к человеку, которого он прекрасно понимал.
Далее Дельфин Галямович на правах хозяина пригласил всех к себе в кабинет, поручив разгрузку «газона» своим работникам. Водитель был оставлен Гегелем Мазгаровичем возле машины для осуществления общего руководства. Все-таки внешний вид у того был не совсем представительный. Ну и так, на всякий случай – материальные ценности, как никак.
В кабинете Дельфин Галямович усадил гостей за стол для совещаний, сам сел в свое рабочее кресло, нажал на кнопку аппарата селекторной связи и попросил секретаря принести для всех «щай с пищиньем». В ожидании угощения он стал рассказывать о заводе. Внимание, с которым гости слушали, вдохновляло его. Пусть даже оно объяснялось не интересом, а вежливостью. Рассказав о структуре и особенностях процесса изготовления и розлива спиртных напитков, завпроизводством перешел к ассортименту выпускаемой «ликеркой» продукции. Он достал со стеллажа бутылку с темной жидкостью и поставил ее на стол.
– Ват, знащит, новый продукыт будим выпсукать в итом году. «Рибинэ на кэньякэ» называицэ. Ранише тулькэ Масквэ выпсукала – типирь ват и нам исть щем погордисэ в будущим!
– Это коньяк? – поинтересовался Хома.
– Нит. Итэ каньящный напитэк, – пояснил Дельфин Галямович.
– Скоро вся жидкость в напитки уйдет. Кофейный напиток есть. Теперь вот, коньячный появился. Осталось только чайный и водочный напитки придумать, – ухмыльнулся Хома, совершенно не боясь диссидентского подтекста своей реплики. Его поняли все, кроме завпроизводством «ликерки».
– Правильнэ. Если мнуга рабутать – все придумэть мужнэ. – согласился он с монтажником и заговорщицки посмотрел на гостей, – Кыстати, эта нувэй продукция биз итикетка пока ищэ. Мужет, вэ шту–нибэдь подскажитэ? Витраж, бит, для нас харуший нарисавале.
– Да, – согласился Гегель Мазгарович, – у нас хорошие художники, всегда творчески подходят к делу.
Решив, что творчество нужно поощрить здесь и сейчас, Дельфин Галямович достал все с того же стеллажа пять рюмок и стал разливать в них «новинку ассортимента».
– Может, по окончании работ? – предложил Гегель Мазгарович.
– Абзатильнэ, – согласился Дельфин Галямович.
– Нет, вы меня не так поняли, – покраснел главный инженер, – Мы не напрашиваемся на угощение.
– А кту напрашиваецэ? Пруста аценитэ нувый прадукция и всю.
– Я хотел только сказать, что у наших работников душа к алкоголю не лежит.
– Правильнэ. Раз не лежит, знащит и класть её туда ни надэ, – согласился Дельфин Галямович, разливая коньячный напиток.
Гегель Мазгарович взял рюмку и встал. Монтажники последовали его примеру. «Выпьем и сразу пойдем» – подумал он.
– За начало! Чтоб легко пошло и мимо не прошло! – неожиданно задвинул тост Хома.
– Правильнэ, – согласился Дельфин Галямович, чокаясь со всеми.
Пока Гегель Мазгарович отпивал из рюмки будущую гордость уфимского ликеро-водочного завода и думал о том, какие комплименты по поводу ее вкусовых качеств высказать гостеприимному хозяину, Хома неожиданно продолжил разговор.
– А хорошо бы на этикетке на фоне древесной фактуры вот такую же рюмаху запечатлеть и над ней кисть спелой рябины. С желтыми осенними листьями, – сказал он присаживаясь.
– Какуй фактурэ? – переспросил его Дельфин Галямович и тоже сел. Фактура для него была связана только со счетом и ни с чем более.
– Ну, фон сделать на этикетке. Такой, под дерево, – он взял бутылку и показал на ней размер воображаемой этикетки, – Не обязательно под рябину, можно под дуб, под ясень…
Гегель Мазгарович знал продолжение этой поговорки, популярной среди его подчиненных – «Под дуб, под ясень, под хрен дяди Васин». Он покраснел, но что сказать не знал. «Тоже мне, шутник!» – подумал он.
Хома действительно был шебутным парнем. Любил посмеяться и других посмешить. Причем никогда нельзя было сказать, шутит он или говорит всерьез. Вот и сейчас Гегель Мазгарович не мог предугадать что еще «выкинет» Хома. «Хорошо, что Валиахметов у них старший. Хоть бригаду спокойно оставить можно на таком опасном объекте!» – подумал он.
Но тут сам же Хома пришел на помощь своему начальнику.
– Ладно, пойдем – сказал он и встал из-за стола, – Работа, конечно, не волк, но и не рябина на коньяке – быстро не кончится.
Дельфин Галямович решил сам проводить гостей до объекта, на котором им предстояло работать. Всю дорогу он не умолкал, рассказывая о недавно установленной новой линии разлива, о проблемах с тарой, которая возвращалась из магазинов абсолютно разбитой, о нехватке транспорта для вывоза готовой продукции и т.д. Для подтверждения сказанного Дельфин Галямович выбрал самую длинную дорогу к объекту.
Хома по ходу экскурсии задавал какие-то вопросы, на которые завпроизводством с нескрываемым удовольствием отвечал. Причем, опять было непонятно: интересно Хоме на самом деле или он прикалывался. По пути некоторые работники ликерки подходили к Дельфину Галямовичу с просьбами что-то согласовать или подписать. Он извинялся перед гостями за то, что вынужден прерывать рассказ о предприятии и отвлекаться на решение производственных вопросов. Чувствовалось, что человек кайфовал от своей необходимости.
Экскурсантам была показана вся технологическая цепочка производства выпускаемой заводом продукции, вплоть до ее последующего бутылирования и фасовки. Также в качестве доказательства нерадивости работников розничной сети были предъявлены разбитые ящики, сложенные штабелями перед зданием тарного цеха.
– Я на выстрищах в пищетургах вапрусы паднимэл фсигдэ. Тулькэ в каву ни плюнь – никому ни нравицэ. Асубинэ критикэ. Вут мине и атвищают, штэ это не они винэватэ, а штэ даруги у нас в гурэде с выебонами. – пожаловался Дельфин Галямович, сделав ударение в последнем слове на гласную Ы.
– С чем? – хором переспросили рассказчика Хома и Шалаев, давясь от смеха.
– С выбоинами. Потому что не ремонтируют дороги, – пояснил им Гегель Масгарович, не видя абсолютно ничего смешного в проблеме плохих дорог, нерадивости работников торговли и акценте гостеприимного представителя заказчика.
– Да-да! Сафсим не римантирэвэют, – согласился Дельфин Галямович, – Как буттэ это их лищный даругэ: хащу – ремантирэвэю, а хащу – нит. Тулька из-за плахуй даругэ булше не тара бьюцэ, а бутылкэ.
Прямо у входа в тарный цех на одном из ящиков сидел мужчина и курил. Увидев процессию во главе с завпроизводством, он выбросил окурок и вскочил с места. Мужчина был невысокого роста. На вид ему было лет пятьдесят. На нем был покрытый пылью халат и засаленная каскетка некогда красного цвета с символикой «Олимпиада 80». Дельфин Галямович подошел к нему и спросил:
– Ну, Василищ, как диля?
– Вот, перекуриваю. Завтра у меня отпуск начинается – надо с мыслями собраться, обмозговать всё…
– Щивэ сэбирэт и мазгават? Тибэ тара надэ сартирэвэт! Как идют рабутэ я тибэ спырашивэю?!
– Айбат, Дельфин Галямович! Глаза боятся, а член профсоюза, – тут мужчина заговорщицки подмигнул сопровождавшим начальство молодым людям, – как говорится, своё дело знает!
– Ни надэ мне тут про свуй щлен прафсаюза рассказывэт! Как отпусык итти – все права знают. А как рабутать – сразэ памит каруткий станувицэ. Кту мни абищэл тирритурия ащистэт ищо на прушлый нидиля? Пака ни закунщиш – дамуй ни пайдюшь. Фтаруй смина астанишьсэ!
– Ярар, Дельфин Галямович! Хоть в третью! Перед отпуском надо хорошо поработать – так что я только «за». Лучше пусть деньги за почасовую работу капают, чем жена на мозги, – улыбнулся отнюдь не голливудской улыбкой Василич и кивнул на сопровождавших заведующего производством молодых людей, – А это кто? Помощников мне что ли привели?
– Эта твурщиские люди. Ни щита тибэ. Ани нам витрэж дилать будут!
– Творческие? – удивился Василич и как-то недоверчиво протянул: – Ну–ну, коромысло гну.
– Пайдюмти, товарищи, – обратился завпроизводством к своим спутникам и они продолжили ознакомительную экскурсию по «ликерке».
Гегель Мазгарович посмотрел на часы. Было уже двенадцать с четвертью. Он вспомнил, что еще вчера обещал водителю найти до обеда время для замены масла в двигателе. Весь следующий день был расписан почти что поминутно и без машины было никак не обойтись.
– Я с вашего разрешения пойду, – прервал он неумолкавшего ни на секунду Дельфина Галямовича, – Дела, понимаете ли. Было очень интересно узнать как у вас тут все организовано. Я даже некоторые вещи себе на заметку взял, – улыбаясь, слукавил он.
– Канишна, канишна, – почему-то обрадовался Дельфин Галямович, – я тут сам ребятым всю покажу. Пропсук на машинэ я выписал сразэ. Ун на прахаднуй лижит. Дарогэ найдюти?
– Да, да. Я ведь у вас здесь уже все знаю, – улыбнулся Гегель Мазгарович и, попрощавшись со всеми, направился в сторону проходной. «Молодец Эдуард, – думал он, подходя к машине, – если бы все молча слушали, то человек и расстроиться мог. А так мы ему, наверное, очень даже понравились».
Начавшие уставать от вводной лекции и экскурсии монтажники были очень рады, когда подошли к новому корпусу, где они и должны были устанавливать витраж. Внутри здания все стены были уже отштукатурены, оконные проемы застеклены и единственным элементом, без установки которого нельзя было приступить к чистовой отделке, был витраж.
Дельфин Галямович поднялся с «ребятыми» на этаж, где в кучу были сложены коробки с витражным стеклом, инструмент, расходные материал и их сумки с одеждой и едой. Выезжая в первый раз на объект, монтажники всегда брали с собой из дома еду – кто его знает, есть там столовая по близости или нет. А если и есть, то вдруг обслуживают только по талонам?



