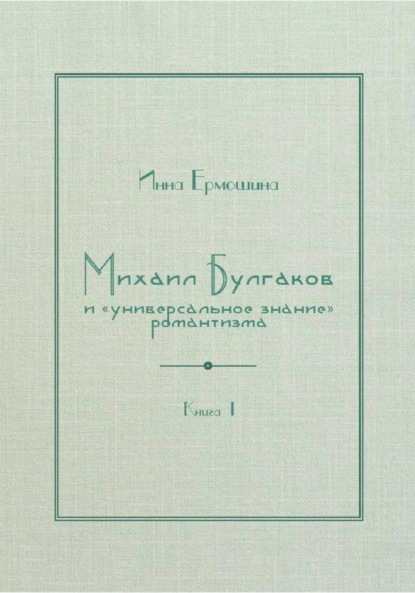
Полная версия:
Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 1. Трагедия профессора Персикова
А вот Б. Соколовский в комментариях к повести РЯ упоминал заметку о ней М. Лирова (М.И. Литвакова) в журнале «Печать и революция» в январе 1925 г. Лиров по поводу связи сюжета РЯ с сюжетом произведения Уэллса отмечал «переработанный в более оптимистическом духе» финал: если английский фантаст в финале романа показывал невозможность искоренить новые формы жизни, в повести Булгакова они полностью уничтожались, и никто из ученых не был способен повторить эксперимент профессора Персикова с «лучом жизни»; общая оценка повести РЯ Лировым прямо противоположна оценке В. Шкловского: критик утверждал, что связь повести с романом Г. Уэллса позицию М. Булгакова нисколько не проясняет: «И какой же это, в самом деле, Уэллс, когда здесь та же смелость вымысла сопровождается совершенно иными атрибутами? Сходство чисто внешнее»138.
Противоречия в оценке повести, как видим, связаны с акцентированием критиками разных элементов сравниваемых произведений. В. Шкловский отметил общую схему сюжетов и указал на схожесть мотива «негодного исполнителя/ плохого исполнения» эксперимента у Г. Уэллса и М. Булгакова, сопоставив «плохого врача» Уинклса в «Пище богов» с «кожаным человеком» Рокком, в повести РЯ, а М. Лиров, справедливо указав на разницу финалов, лишил аргумент В Шкловского о тотальном заимствовании М. Булгаковым силы. Действительно, финал повести РЯ выглядит как булгаковское «нет» фантастическому новому открытию: история открытия профессора Персикова заканчивается возвращением жизни в Советской России в обычное русло, ученый гибнет, тайна его открытия утрачена и не может быть повторена, в то время, как Г. Уэллс сказал такому же открытию «да»: вскормленные Пищей богов дети стоят у истоков новой человеческой расы гигантов, отличающейся физической силой и силой ума, за ними будущее. Это различие финалов может быть объяснено только разной позицией писателей в разрешении некоей общей для них проблемы в теме, которой и роман «Пища богов», и повесть «Роковые яйца» посвящены.
Сформулируем эту тему, в первом приближении, как «трудности внедрения прорывных технологий по ускорению роста живых организмов» на примерах из обыденной жизни английского и российского обществ, т.к. суть порошка Пищи богов, изобретенного профессорами Г. Уэллса и «луча жизни» профессора Персикова в повести М. Булгакова, бесспорно, одна и та же: их применение связано с ускорением процессов жизнедеятельности организмов. Также схоже стремление писателей отобразить разнообразие реакций своих обществ, английского и российского, на «чудо»-средство. Постараемся с максимальным вниманием отнестись к деталям в этой теме и выделить общее и особенное в ее решении в романе Г. Уэллса и повести М. Булгакова.
Начнем с замечания о том, что и Г. Уэллс, и М. Булгаков имели прямое отношение к естествознанию, и это общее для них качество, безусловно, не может игнорироваться в ситуации, когда эти писатели в своих произведениях обращаются к теме научных открытий и образам ученых.
Определение естествознания, которым пользовалась российские интеллектуалы на рубеже XIX-XX вв., в Энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Эфрона дал профессор А. Бекетов, дед поэта А. Блока, назвав его наукой «о строении вселенной и о законах, ею управляющих»139 и определив, что цель естествознания заключается «в механическом объяснении строения космоса во всех его подробностях, в пределах познаваемого, приемами и способами, свойственными точным наукам, т. е. посредством наблюдения, опыта и математического вычисления. Таким образом, все трансцендентальное не входит в область естествознания, ибо его философия вращается в пределах механического, следовательно, строго определенного и отграниченного круга»140. В бекетовском определении важна соотнесенность границ естествознания с границами только человеческого опыта, т.к. понятие «трансцендентальный» та же Энциклопедия Ф. Брокгауза и И. Эфрона соотносит с понятием «метафизический», т.е. с философской областью, претендующей познать лежащее за пределами возможного опыта141; к «высшему умозрению», происходящему не из непосредственного опыта или ощущения человека а как бы данному ему априори, относит трансцендентальное «Новый словарь иностранных слов…» 1912 г.142 Таким образом, в соответствие с представлениями рубежа XIX-XX вв., особенностью естествознания считалась опора на факты, добытые человеком опытным путем в процессе познания, в то время как трансценденталисты/метафизики признавали существование предшествующего/ первоначального опыта, превосходящего человеческий опыт, и, соответственно, естествознание избегало религиозных и, шире, метафизических идей и объяснений в познании.
Очевидно, Михаил Булгаков, выпускник, отличник медицинского факультета в Киевском университете, сдавший государственные экзамены по двадцати двум предметам, работавший хирургом в военном госпитале и три года практиковавший врачом143, – к естествознанию имел прямое отношение. Как именно он использовал научные знания и практические навыки медика при работе над художественными произведениями, нам предстоит познакомиться детально. Что касается Герберта Уэллса – тема его особых взаимоотношений с естествознанием в целом прояснена исследователями.
В 1884-1887 гг. Герберт Уэллс, будучи студентом, слушал курс профессора естествознания Томаса Хаксли по эволюционной биологии, ориентированный именно на человеческий опыт. «Изучение зоологии в то время, – писал впоследствии Г. Уэллс, – складывалось из системы тонких, строгих и поразительно значительных опытов. Это были: поиски и осмысление основополагающих фактов. Год, который я провел в ученичестве у Хаксли, дал для моего образования больше, чем любой другой год моей жизни»144. В последующем, в 1930 г., Г. Уэллс в соавторстве опубликовал фундаментальный труд «Наука жизни» (в 3 т.), излагавший историю живых организмов на планете, а в 1942 г. стал доктором биологии145.
Естественнонаучное образование определило особенность прозы Г. Уэллса: посвятив всю свою жизнь литературному творчеству, он оставался в пределах научного мышления. В 1931 г. в предисловии к новому изданию своего романа «Машина времени» писатель высказался более чем ясно: «Мне пришло в голову, что вместо того, чтобы, как принято, сводить читателя с дьяволом или волшебником, можно, если ты не лишен выдумки, двинуться по пути, пролагаемому наукой»146. В подобном роде он определил вес фактов в своем романе «Война миров»: в нем «от начала до конца нет ничего невозможного»147.
Являясь реформатором литературных форм, языка и творческих приемов в работе с фантастическими образами, Г. Уэллс максимально сближал их с фактами реальности, провозглашая сам процесс соединения научного и волшебного в человеческом воображении высшей целью человека разумного. Так, один из его героев, профессор Редвуд («Пища богов»), рассуждая о подходах в воспитании людей новой расы – гигантов, взрощенных на особой субстанции, обозначил главенство воображения над иными формами проявления разума: «Нужно развивать воображение ребенка, в конце концов это и есть цель всякого воспитания. Да, так: воображение – цель, а трезвый ум и разумное поведение – основа. Отсутствие воображения – это возврат к животному состоянию; испорченное воображение – похоть и трусость; но благородное воображение – это бог, вернувшийся на грешную землю»148.
По замечанию современника М. Булгакова, Замятина, проза Уэллса в полном смысле научно-фантастическая, потому что в ней для сказки писатель строил особый путь – вымощенный «астрономическими, физическими, химическими формулами», утрамбованный «чугунными законами точных наук»149. «Все сказки Уэллса, писал Е. Замятин, это сказки ученого с необузданной фантазией; все фантазии Уэллса – фантазии химические, математические, механические; все фантазии Уэллса – может быть, вовсе не фантазии»150. Отметим, что сам Е. Замятин имел образование корабельного инженера151, поэтому его указание на способ сцепления Уэллсом научных и сказочно-мифологических деталей в произведениях особенно ценно: «Ведь миф всегда, явно или неявно, связан с религией, а религия сегодняшнего города – это точная наука, и вот – естественная связь новейшего городского мифа, городской сказки с наукой. И я не знаю, есть ли такая крупная отрасль точных наук, которая не отразилась бы в фантастических романах Уэллса. Математика, астрономия, астрофизика, физика, химия, медицина, физиология, бактериология, механика, электротехника, авиация. Почти все сказки Уэллса построены на блестящих, неожиданнейших научных парадоксах; все мифы Уэллса – логичны, как математические уравнения. И оттого мы, сегодняшние, мы, скептики, так подчиняемся этой логической фантастике, оттого она так захватывает, оттого мы так верим ей»152.
Но работа с мифом, с архетипами, заложенными в нем, как основополагающими и вечными, «всегдашними» элементами культуры, – как раз цель и идеал для литературного течения романтизма. Очевидно (и замечания Е. Замятина, считавшего науку и искусство разными формами отображения мира153, в адрес творчества Уэллса это подтверждают), для приверженцев романтических идеалов, верящих в синтез аналитической науки и архетипов, культурных кодов, заложенных в древней мифологии, – причудливое сплетение в уэллсовском творчестве добротно и талантливо используемых науки и фантазии могло напоминать об «универсальном знании». В этой связи интересно замечание исследователя творчества Г. Уэллса Ю. Кагарлицкого о творческом методе, позволившем английскому писателю найти плодотворную связь между наукой и искусством, что в итоге принесло плоды и в литературе, и в прогностической части естествознания: «Наука не просто дала ему факты, от которых он мог оттолкнуться, чтобы создать образы и построить сюжет. Она помогла ему создать метод, найти подход к миру, приносивший огромные плоды в области литературы, прежде всего, но кое в чем и в науке. Ибо то, чем занимался Уэллс, не было, пользуясь выражением Гегеля, "служебной наукой" и "служебным искусством". Это были Наука и Искусство, направленные на постижение мира, а они близки между собой.»154. Здесь же более чем уместным будет упоминание о парадоксе, с которым столкнулись биографы Г. Уэллса: английские критики отмечали трудности в определении, кто такой на самом деле Уэллс – слишком он многосторонен155, а Карел Чапек, указывая на особые творческие методы Уэллса, писал, что «ни наука, ни философия не отваживаются на создание такого аристотелевского синтеза, какой оказался по плечу писателю Уэллсу»156.
Универсальность, равноценность науки и фантазии, многосторонность и невозможность быть «схваченным» одним определением – эти формальные признаки романтического дискурса, присущие Г. Уэллсу, сближают его творчество с творчеством романтика М. Булгакова. Универсальность Уэллса оказалась необыкновенно близка мечтам романтиков о высшей духовной производительности человека в творчестве, плодом которой являлось универсальное знание, синтез аналитики и мифа, естествознания и искусства.
Как именно М. Булгаков, писатель, проявивший себя профессионалом во врачебной и хирургической практике, знавший цену и вес наблюдения, опытов и строгой логики механического (в определении профессора А. Бекетова) объяснения строения живых организмов, и вместе с тем не уступавший Г. Уэллсу в «буйстве» фантазии, – творил свою литературную «химеру»? Какие именно истины, связанные с естествознанием, были общими для английского и российского писателей и чем отличались способы их донесения до читателей?
В сравнении образов людей науки, их открытий и последствий этих открытий в романе «Пища богов» Г. Уэллса и повести «Роковые яйца» М. Булгакова первое, что обращает на себя внимание – совпадение общих характеристик и антуража научной деятельности персонажей в профессорском звании.
Ученый-химик Бенсингтон и профессор-физиолог Редвуд из романа Г. Уэллса – и это многократно подчеркнуто автором романа – маленькие, непримечательные люди, погруженные в свой ограниченный мирок научных опытов, крайне сосредоточенные на своих научных изысканиях, живущие замкнуто, практически как монахи (121.191). Бенсингтон – бывший президент Химического общества, заслуживший рыцарские шпоры за свои исследования в области ядовитых алкалоидов (121.189,190), профессору Редвуду, славу принес обширный труд о мышечных рефлексах (121.190). «…Во всем, что не касается науки, и Редвуд и Бенсингтон были людьми самыми заурядными. Вот только, пожалуй, сверх меры непрактичными» (121.191).
В «Пище богов» профессор Редвуд имеет семью и ребенка, но семейная жизнь его необычна: именно Редвуд первым решился применить созданный им волшебный порошок Пищи для улучшения роста своего маленького сына без предварительного испытания на «крупном опытном материале», т. е. на животных. Жизнь профессора Бенсингтона проходит под строгой опекой его кузины Джейн.
Булгаковский профессор зоологии Персиков, как и герои Г. Уэллса, глубоко погружен в мир своих исследований и «слишком далек от жизни» (22.392). Персиков – «первоклассный ученый» (22.358), чья «эрудиция в его области… была совершенно феноменальная», но вне своей области, «т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии», он почти никогда не говорил, «газет… не читал, в театр не ходил» (22.357). Жена от Персикова «сбежала… с тенором оперы» (22.357), и как нянька за ним ходила сухонькая старушка – экономка Мария Степановна. Энтузиаст-ученый, хороший специалист в своей области знания с неустроенной личной судьбой, далекий от проблем обыденной жизни – таковы первые характеристики ученых от Г. Уэллса и М. Булгакова.
Схоже в романе Г. Уэллс и повести М. Булгакова оценен вес научных занятий главных персонажей: их труды ценятся в очень узком кругу, оставаясь непонятными для широкой публики.
Г. Уэллс занятия наукой Бенсингтона и Редвуда назвал «достойными и безвестными» (121.190), отнеся их к знанию особого сорта, представители которого мыслят «диаграммами и кривыми» (121.194). Рассказывая о трудах профессора Редвуда, в конце которых были приложены огромные диаграммы с «удивительными зигзагами невиданных молний» (121.194), Уэллс писал: «Подолгу ломаешь себе голову, тщетно пытаясь понять, что же все это означает, а потом начинаешь подозревать, что этого не понимает и сам автор. Но в действительности многие ученые прекрасно понимают смысл своих писаний, да только не умеют выразить свои мысли языком, понятным и для нас, простых смертных» (121.194). В сцене чтения профессором Редвудом лекции в некоем научном обществе Г. Уэллс свою иронию усилил, описывая отрешенность лектора (он читал доклад «просто из чувства долга» (121.191)) и поведение его слушателей, простых обывателей, собравшихся в помещении под названием «Бильярдная», чтобы под монотонную речь докладчика «под покровом тьмы жевать сдобные булочки, сандвичи и прочую снедь» (121.191).
Узость области применения научного языка, непонятность его для простой публики, влекущие за собой отсутствие широкого интереса к трудам ученых, посвятивших им годы своей жизни, обозначены и в булгаковской повести. «Мир неожиданно узнал» (22.360) об ожившем после трудных первых лет советской власти профессоре Персикове, когда вышла в свет его брошюра: «Еще к вопросу о размножении бляшконосных, или хитонов», а немного позже появился «капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек» (22.360). М. Булгаков явно ироничен в этом примере славы главного своего героя, приведя скучные и непонятные неспециалистам научные термины в названиях его трудов. Не менее ироничен, чем Г. Уэллс в характеристике славы профессора Редвуда, который «обессмертил себя… право, не помню, чем именно. Знаю только, что чем-то он себя обессмертил <…> Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенный множеством таблиц и сфигмографических кривых (если я путаю, пусть меня поправят) и новой превосходной терминологией» (121.190).
Особенность научного языка своего персонажа М. Булгаков упомянул, описывая общение Персикова с его ассистентом доцентом Ивановым в лаборатории, где ученые мужи «перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами» (22.361), и не менее выразительно недоступность этого языка для «простых смертных» подчеркнута писателем в диалоге профессора с журналистом Бронским. Вопрос «Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» (22.384) вызвал у Персикова «извержение» малопонятных научных описаний «птиц с мясисто-кожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью» (22.385) и научных названий болезней кур: «…куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек… Пневмономикоз, туберкулез, куриные парши… грибок Ахорион Шенляйни…» (22.385).
Используя иронию, Г. Уэллс и М. Булгаков отобразили определенную ограниченность знаний и аудитории, способной понять ученых своей эпохи, пишущих друг для друга157.
Эта синхронность приобретает особый смысл, если допустить, что М. Булгаков не просто «копирует» Г. Уэллса, а оба писателя ведут речь не столько о частных примерах, сколько о фигурах типических, презентуя своих героев как представителей науки своей эпохи.
«Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым собратьям, для широкой публики оно остается книгой за семью печатями…» (121.191), – замечает Г. Уэллс в самом начале своего романа, обозначив прямым авторским указанием «собирательный» характер своего главного героя, «человека науки». Приводя названия тех из них, кто «привлечет к себе хоть капельку внимания» «госпожи публики и ее прессы»: «выдающийся ученый», «маститый ученый», «прославленный ученый», а то и еще пышнее» (121.189), английский писатель обозначил также главный «нерв» романа – особенности взаимодействия мира ученых и «госпожи публики».
М. Булгаков, фиксируя такое же парадоксальное сочетание непонимания ученых штудий со стороны широкой публики и одновременно возрастание пиетета к ученым и результатам их трудов, явно солидарен с Г. Уэллсом: открытие профессора Персикова вызвало ажиотаж в Москве и Советской России, от «луча новой жизни» (22.370) «госпожа публика» ждет понятных ей результатов, например, ответа на вопрос, правда ли, что под воздействием луча в течение двух суток из полуфунта икры можно получить два миллиона головастиков (22.371). «Маститым», «великим» ученым в повести РЯ профессора Персикова называют люди, далекие от науки: журналист Альфред Бронский (22.373) и приставленный к Персикову для охраны сотрудник ГПУ (22.397), – таким образом, как и Г. Уэллс, М. Булгаков демонстрирует внимание к определенной тенденции в мире науки рубежа XIX-XX вв.
М. Булгаков отказался от авторского сопровождения читателя в виде ремарок, не оставляющих сомнения во внимании автора к типическому в отображаемых им реалиях, как это сделал Г. Уэллс, – в повести РЯ авторская нацеленность на типизацию образа ученого сосуществует с желанием не лишить этот тип жизненной правды. Ирония и сарказм Булгакова в отношении к сухой науке и ученым в повести РЯ подразумеваются, присутствуют некоей аурой в нескольких ситуациях столкновения ученого с представителями «широкой публики» и «простыми смертными», и вместе с тем авторское «разоблачение» включает в себя передачу серьезных чувствований персонажа в профессорском звании. Например, ирония в отношении к Персикову соединяется с щемящим чувством жалости к его беззащитности при описании Булгаковым голодных лет, когда от «бескормицы» (22.358) опустели террарии персиковского института зоологии, умер сторож Влас, издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи, а сам профессор, переболев воспалением легких, лежал в холодной комнате и… вспоминал погибшую Суринамскую жабу. Оторванность от жизни героя в этом описании сопрягается с обозначением его бесконечной преданности своему делу – здесь усмешка в его адрес получается горькой. Когда в сцене опроса Персикова журналистом Бронским выясняется, что журналист не понимает ничего в научных терминах, и оттого нервно вытирает «пот со лба цветным носовым платком» (22.385), а профессор не в курсе, что уже несколько недель в республике начался куриный мор, – читателю и смешно, и страшно, и тревожно: разрыв между миром науки и обыденностью показан и ернически, и узнаваемо-просто. Сцена разговора сторожа Панкрата с профессором Персиковым после новости о смерти жены профессора также строится М. Булгаковым иронично. Вызванный в лабораторию сторож увидел неподвижно стоящего у стола профессора и ужаснулся невиданному им ранее явлению: «Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы <…> Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она… ночь <…> Панкрат, растерявшись, тосковал, держа от страха руки по швам» (22.397), а после разговора разом хлюпнул около чайного стакана водки. Странность выражения горя Персиковым, всегда озабоченного только наукой, вызывает потрясение и ужас у «простого человека», сложное чувство возникает в итоге и у читателя: утрированная ирония писателя здесь облечена в форму жалости и к главному герою, и к его подчиненному. Но разжалобиться окончательно не позволяет венчающая сцену фраза охранника от ГПУ при профессоре, усиливая иронию до сарказма: «Великий ученый, – согласился котелок, – известно, лягушка жены не заменит» (22.397).
Заподозрить в типичности образ главного героя повести РЯ позволяет факт представленной в повести биографии главного героя в главе с названием «Куррикулюм витэ профессора Персикова» в форме традиционного и стандартного для человека большой науки особого резюме, именуемого Curriculum vitae (CV), содержащего краткое изложение хода жизни, образования и профессиональных достижений ученого. Также цели широкого обобщения, подразумеваемого в образе Персикова, служит подчеркнутая писателем неразрывность судеб профессора и его института, переживших в первые послереволюционные годы голод, холод и развал экспериментальной и лекторской работы. Финал повести, повествующий о гибели профессора и появлении на месте сгоревшего института нового зоологического дворца во главе с заведующим – бывшим ассистентом Персикова Ивановым, нацелен поддержать подразумеваемый М. Булгаковым образ безусловной устойчивости и преемственности форм и способов организации научного знания вообще, т.е. включает происходящее в общие процессы, размыкает границы истории профессора Персикова для широких обобщений.
Время появления «великих» и «маститых» ученых обозначено в самом первом абзаце романа Г. Уэллса «Пища богов» – «середина девятнадцатого века» (121.189). Именно тогда, пишет Уэллс, «в нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части немолодых, которых называют учеными – и очень правильно называют, хоть им это совсем не нравится» (121.189). В одном из первых переводов романа Г. Уэллса в России переводчик И.А. Тан (литературный псевдоним В.Г. Богораза) для обозначения этого нового явления в науке использовал понятие «класс»158, что, пожалуй, лучше всего отображает масштаб нового явления. Сравним с современными положениями истории науки: «Понятия исследователя-любителя, популяризации науки среди широкой публики возникают лишь в середине – второй половине XIX в. параллельно с превращением научной деятельности в профессию и появлением новых форм организации научной деятельности. В более раннюю эпоху использование даже таких базовых категорий, как «ученый», «научное исследование», оказывается порой достаточно проблематичным»159. Появление особой категории людей, «ученых», зафиксировано в энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона, в статье «Университет»: «Вместо профессоров-энциклопедистов, в XIX в. в университетах преподают ученые специалисты, посвящающие всю жизнь одному какому-нибудь отделу науки; нет более преподавателей юриспруденции или медицины, но есть профессора римского, церковного, полицейского, международного и т. д. права, анатомии, физиологии, офтальмологии, патологической анатомии и т. д….»160. Энциклопедизм, царивший в познании до середины XIX в., к концу века «рассыпался» на отделы науки, а решение важнейших проблем познания начиная со второй половины века и, соответственно, в начале века XX связывалось не с метафизикой (в том числе – богословием, которое «курировало» и спекулятивную философию: «спекуляция» в Энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона определена как «умозрение»161), а с факультетами естествознания, среди которых особо выдвинулся медицинский162. Соответственно, изменился тип людей, наукой занимавшихся: узкая их специализация становилась новой нормой, равно как и сосредоточенность на точных науках; получало приоритет знание, полученное путем наблюдения, опыта и математического вычисления.
Английский философ, логик и математик А. Уайтхед в 1923 г. писал по поводу этой пертурбации в сфере познания: «Человечество… утратило интерес к всесильной благодати, но быстро воздало должное сведущей инженерной мысли, рожденной наукой. <…> Мы уже почти забыли о существовании высшего совершенства, поиск которого занимал людей в Средние века. Они поставили перед собой задачу достижения идеального гармонического понимания. Мы же удовлетворяемся поверхностными регулярностями, к которым мы приходим из разных и произвольных начал»163. Отметим практически буквальное сходство определения естествознания А. Бекетова и характеристику новой формы знания А. Уайтхедом: оба отмечали отход от ценностей целостного мировоззрения в пользу частного и механистичного взгляда на мир. Суть происходящего в культуре нового поколения, по Уайтхеду, ярче всего находило отображение в литературе: «Конкретное мировоззрение человека именно в литературе получает свое выражение. Соответственно, если мы рассчитываем проникнуть во внутренний мир мышления некоторого поколения, нам следует обратиться к литературе, в особенности к ее конкретным формам, к поэзии или драматургии»164. А. Уайтхед ясно показал «зеркальность» проблем в познании и культуре в целом рубежа XVIII- XIX и XIX -ХХ вв.: вызываемое развитием точных наук, естествознания, механики и техники снижение роли «спекулятивных», умозрительных наук, заглядывающих дальше человеческого опыта, самой науки, и человека, ищущих первопричин и всеобщей связи всего со всем в мире. Появление «романтической реакции» в литературе рубежа XIX-ХХ вв. А. Уайтхед обосновывал желанием ряда мыслителей и литераторов навести мосты между наукой и фундаментальной интуицией человечества и отказаться от понимания природы только как механизма, т.к. эта точка зрения превращает в бога любого, кто хоть какой-то механизм создал: «… наука… основана на философии, утверждающей, что физическая причинность есть высший тип причинности и что физические причины надо отделить от конечных <…> Бог будет тем, кто сконструировал… механизм. Иными словами, механизм в конечном счете предполагает механика, но не механика вообще, а того, кто занят именно этим механизмом»165. Безусловно, А. Уайтхед представил в развитии идею отказа романтиков от «микрологии», как феномена, примитивизирующего познание мира и человека.

