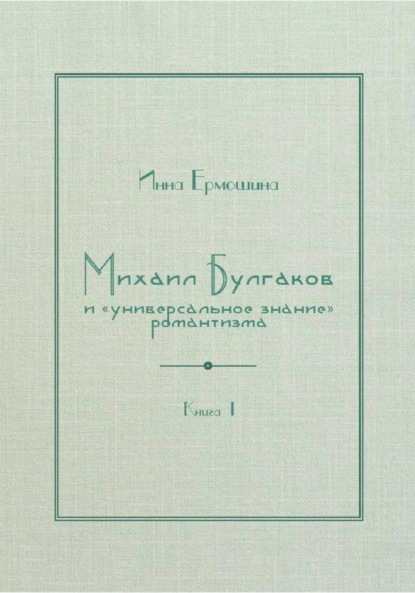
Полная версия:
Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 1. Трагедия профессора Персикова
Для понимания творчества М. Булгакова важно то, что романтизм как явление, по утверждению его исследователей, еще не считался завершенным в начале XX века: неоромантики в своем творчестве прибегали к той же поэтике, философскому миросозерцанию и приемам творчества, что и их предшественники в начале века XIX47. Об этом писал де Ла Барт, в начале XX века читавший лекции в Киеве, но, конечно же, не из его лекций юный Михаил Булгаков усваивал идеалы романтизма. Восприятие реальности как завесы, проявляющей сложную жизнь неких сущностей, находящихся за ней, точнее, составляющих с завесой органическое целое, связано с особым мировоззрением, которое формируется не в один миг и под воздействием множества разных источников информации. Неслучайно В. Жирмунский оговаривал возможность исследовать романтизм с позиций гносеологии, метафизики, психологии, поэтики и эстетики в силу того, что он не является чисто литературным фактом, представляя собою особый способ переживания жизни, связанный с чувством присутствия Бога во всем48.
Мир для романтиков является божественным организмом, и в этом организме все необходимо для целого, «но все индивидуально, и организм зависит от каждой частности своего устройства»49. Именно этими особенностями объясняется пантеизм романтиков, их натурфилософия50, утверждающая, что материя и дух, Бог и природа едины, и в этом единстве первична активность духа51. Вся природа в представлении романтиков одушевлена: «вся жизнь божественна, она есть Божья плоть»52. Для отображения сложной целостности мира, романтическая поэтика требовала «магического освещения». В синтезе типического и архетипического, сказочного, волшебного и обыденного, узнаваемого и понятного всем – суть романтизма, утверждавшего, что общее более реально, чем частное и единичное и что истинный реализм связан с универсумом, а не с отдельными вещами53. Прекрасно проиллюстрировал этот тезис литературный критик И. Миримский, современник М. Булгакова, определяя, как интегрировал обыденное и волшебное немецкий романтик Э. Гофман: романтик, с одной стороны, «…берет героя из жизни, стремясь изобразить его такими индивидуальными чертами, чтобы можно было с первого взгляда узнать в нем своего соседа-чиновника, друга-студента, самого себя»54, а с другой стороны, набрасывает «странный волшебный колпак на таких серьезных людей, как советники, архивариусы и студенты, заставляя их, как нечистую силу, куролесить среди бела дня по шумным улицам знакомого города на смех добропорядочным соседям»55.
Встречающиеся в произведениях романтиков недоговоренности, странности, волшебные образы и прерывания сюжетной линии некими «лакунами» особого, «волшебного» времени, – все это «материальный след» синтеза реального факта и его типичности и «вневременности». В «Новом полном словаре иностранных слов 1912 г.» характерным для романтиков названо состояние неудовлетворенности и всем временным, и всем вечным, а также отмечено их стремление к сверхъестественному, таинственному, необычайному, фантастическому и особое пристрастие к старине56. Фантазию романтиков «Новый полный словарь…» определил «органом для восприятия бесконечного»57, т.е. особой формой связи реальности с подразумеваемой «вечной» основой мира.
О том, что фантастические элементы в произведениях романтиков связаны с символотворчеством, писал Август Шлегель, немецкий писатель и теоретик романтизма XVIII в. Он определял задачу романтика так: «вечно созидать символы: либо для духовного мы ищем внешнего облачения, либо же внешнее мы относим к невидимому внутреннему»58. У Э. Гофмана символотворчество приравнено к сочинению сказки с особым смыслом: сказочник – это волшебник, чародей, подобный портному, сшивающему реальность и идеи «волшебной иглой» своего творчества. «Мне представляется, – говорит волшебник в гофмановской «Принцессе Брамбилле», – будто в пестрой маскарадной игре шутка, причудливая, как сказка, раззадоривает, погоняет всевозможные образы, и они кружатся, мчатся, мелькают все быстрее и быстрее, так что невозможно уже ни распознать их, ни различить между собой»59. Цель этого маскарада такова: «…Гений осознал свою причастность к тем тайнам мира, что теперь раскрыла волшебная иголка чародея»60. Осознание своей особой миссии – говорить о высоком примерами из обыденной жизни – определяло самоназвание романтиков: «хранители священного и таинственного огня», «работники на ниве Господа (ein Arbeiter Gottes)»61. Их шутки и волшебство помогали лечить человека от особой болезни – «хронического дуализма»62, как назвал его Э. Гофман, которая возникла из-за разрыва между реальностью и миром человеческих чувствований, идеалов и мечтаний. Разрыв этот, отмеченный уже ранними романтиками, все больше проявлялся начиная с XVIII в. и стал особенно заметным к началу ХХ в., когда в культуре победил рационализм и естествознание превзошло в своей востребованности и значимости поэзию. В сказке «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» Э. Гофмана различие подходов «физика», сухо фиксирующего факты реальности, и «лирика», ищущего в реальности отзыва на свои чувства, предстает в сравнении строгой системы знания о мире, созданной профессором естественных наук Мошем Терпином и даром студента Бальтазара при помощи «дивного гения в душе» вести таинственные речи с природой; Терпин всегда с удобством мог пользоваться своими знаниями как «шкафом» и на всякий вопрос извлечь ответ, словно из вьrдвижноrо ящика, а Бальтазару природа представлялась «божественным существом, дыхание которого обвевает нас…, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия»63, и каждый новый вопрос к ней требовал воссоздания нового знания. В финале сказки профессор Терпин признал, что его исследования ничего не стоят, найдя успокоение в новых опытах в прекрасном парке и в винном погребе, а суть его образа раскрыл И. Миримский, назвав профессора носителем ненавистного Э. Гофману утилитарного, грубо-рассудочного отношения к природе, апостолом механизации жизни64.
Рассудочная культура, считали романтики, привела к «микрологии» – особому состоянию в области познания, когда человек остается один на один с разрозненными вещами, потерявшими свое целостное значение, т. е. умаленными: первородный грех современной культуры, заявляли они, заключается в раздроблении и обособлении знания, а значит, и в ослаблении самого человека65.
Романтики стремились возродить идеалы натурфилософии, проникающей в тайны мира посредством не только рассудочного анализа, но и поэтических метафор, аналогий и синтетических образов из мифов. Тайны живого одухотворенного организма Вселенной, утверждали они, открываются поэту с его воображением и широтой взгляда не менее глубоко, чем ученому с его измерительными приборами. Для И.-В. Гете, например, размежевание абстрактной мысли и поэтического образа означало такую специализацию знания, которая уничтожала целостное отношение человека к миру, природе: «…У Гете мысль должна сливаться с образом, и логика с поэзией, и все отчленяющееся от целого, философское, научное, должно вновь проникать собою все остальные начала и проникаться ими»66. В представлении романтиков это особое, глубокое знание достигалось в синтезе разума и чувства, названном «мистическим переживанием», «интеллектуальной интуицией», «творческим созерцанием»67.
Романтический по сути своей идеал – провозглашение высшей духовной производительности в синтезе науки и поэтического вдохновения, утверждал русский философ Владимир Соловьев в своих рассуждениях о познании, что свидетельствует о сохранении живой традиции романтизма в российской культуре рубежа XIX-XX вв. Систематическая умственная работа и поэзия – суть одно для В. Соловьева, и идеал мистической истины, «схватывающей» целое мира и побеждающей мертвую рефлексию, философ осторожно и явно не в пользу последнего сравнивал с мышлением нового типа профессора его эпохи – «естественника» и медика, собственным умом доходящего до основных истин метафизики и религии68.
Словесное творчество романтиков в свете вышесказанного предстает своего рода священнодействием (в гофмановском понимании – искусством портного-чародея, сшивающего разные материи/ «материи»), благодаря которому появляется сложноорганизованный многоуровневый текст69. Романтики в этом священнодействии стремились к созданию всеобъемлющего, универсального знания, синтезировавшего, в определении исследователя романтизма де Ла-Барта, индивидуализм и социализм, идеализм и реализм, разум и чувства, теизм и пантеизм70. Это универсальное знание-искусство, которое Фридрих Шлегель, немецкий поэт-романтик и философ, именовал всемирным зеркалом, картиной века71, сочетало «лиризм и объективное наблюдение, изучение прошлого и настоящего, задачи чисто художественные и социальные, религиозные и философские, эстетическое христианство с пантеистическим культом природы…»72 и в итоге содержало единую духовную пищу для поэта, философа, ученого, политика и гражданина. Отмечая особое значение романтизма в истории не только литературы, но и философии, русский философ Степун Ф.А., современник М. Булгакова, писал: «От… разъединения и обособления романтизм… стремится к универсальному синтезу <…> он… мечтает о грядущем… как о синтетическом воскресении науки, философии и искусства во славу полной и всеобъемлющей жизни…»73.
Ставил ли Михаил Булгаков – политический и мистический писатель – перед собой подобную сверхзадачу: в синтезе реальности и мифологического идеала «схватить» квинтэссенцию культуры современной ему эпохи и выразить ее, создав «энциклопедию» всех наличных знаний? И если это так, то, в свете гармоничного сосуществования в универсальном знании конкретных фактов реальности, всего нового74, и вечных истин «большого времени»75, возможно ли релевантное авторскому замыслу понимание булгаковского механизма «сцепления» реального и мифологического в его фантастических образах?
Особую надежду на такую возможность вселяет наличие двух констант в творческой теории романтизма.
Во-первых, миф, позволявший романтикам делать акцент на истинности вечного в силу того, что он объяснял и прошлое, и настоящее, и будущее76, – воспринимался ими как универсальное знание, проверенное веками, и потому – самой устойчивой формой хранения типического в культуре. Новалис (псевдоним немецкого писателя-мистика XVIII в. Ф. Гарденберга) писал: «Мифотворческие переводы суть переводы в самом высоком смысле. Они передают чистую идеальную сущность индивидуального художественного произведения. Они передают нам не реальное произведение. Но идеал его»77.
Миф в романтизме мыслился «каркасом», на котором «сшивались» различные разноцветные полотна «материи» с современными рисунками. В свою современность романтики внимательно вглядывались и пытались провидеть, предугадать пути развития, ориентируясь на вечную мудрость мифа, прогнозируя будущее в свете древнего опыта и одновременно высвечивая суть и своеобразие своей эпохи. Универсальное знание-искусство в романтизме отождествлялось с умением встроить новое в древние схемы, одухотворяя его.
Причина и цель этого одухотворения – человек, и это вторая константа романтизма и его универсальной науки-искусства. Н. Берковский, указывая, что романтизм стремился глядеть одновременно вглубь (в детали современности) и поверх исторической эпохи, акцентируя внимание на связующих и всеобщих элементах во всей многотысячелетней истории человечества, исходной точкой творчества для романтиков называл «этического человека»78. Пафос этого образа трудно переоценить. Для романтиков «личность мыслится… как последнее прибежище духовности, как единственный возможный источник трансформации мира»79. Таким образом, персонаж в романтизме, в ситуации, когда все бесконечно малое – точка, вздох, миг – заключало в себе «необъятное», беспредельное, все80, закономерно приобретал черты символа.
И.-В. Гете утверждал, что персонаж – «существо собирательное, великий носитель своих собственных подвигов и подвигов других людей»81. По замечанию де Ла-Барта: «Лица Гюго превращаются в гигантские символические существа, олицетворяющие целую эпоху, целые народы или вообще «женщину», «мужчину», «отца», «мужа»82. Для Новалиса «деление одной индивидуальности на множество лиц»83, наполненность персонажа чертами других персонажей – необходимость, если писатель ставит задачу философски отобразить свою эпоху как закономерное «звено» в цепи человеческой истории, которая оплотняется в истории жизни отдельного человека. В романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» главный герой становится символом человечества, через Генриха и в Генрихе совершается прорыв человечества в вечность84.
Итак, высокая тема литературных произведений, тяготение к типическому в них, проглядывание мифологической основы в сюжете, персонажи, вбирающие в себя, как фокус, черты и свойства множества лиц, а также подразумеваемая творческая работа литератора по конструированию целого из названных элементов, – вот те признаки, которые позволяют «заподозрить» литератора в приверженности романтизму.
Собственно, М. Булгаков сам достаточно ясно обозначал специфику своего творчества не только в прямом названии себя мистическим писателем, но еще в известном разговоре с Ермолинским, в котором он процитировал статью литературного критика И. Миримского о творчестве Э. Гофмана, предварительно заявив, что наконец-то о нем, Булгакове, написали: «К его имени прикрепляются и получают хождение прозвания, вроде спирит, визионер и, наконец, просто сумасшедший… Но он обладал необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков. На первый взгляд его творческая система кажется необычайно противоречивой, характер образов колеблется от чудовищного гротеска до нормы реалистического обобщения. У него черт разгуливает по улицам города…»85. Отметим, что в этой опосредованной самооценке М. Булгакова через родство с гофманианой содержится косвенное признание осознанной работы писателя-романтика с образами его произведений, которые лишь кажутся стихийно-фантасмагоричными, а на самом деле за ними стоит работа трезвого и практического ума по конструированию их86.
Михаил Булгаков не оставил теоретических трудов по литературе, но многочисленные примеры типического в его персонажах позволяют еще при беглом и поверхностном анализе отметить тяготение писателя к самым широким обобщениям в этой части его творческой работы. В пьесе «Зойкина квартира» председатель треста тугоплавких металлов Гусь характеризуется главной героиней Зоей Пельц именно как типический представитель мира богатых и властных людей в новой Москве, а упоминаемый драматургом «ассирийский профиль» Гуся усиливает элемент «древности», если не извечности, такого персонажа: «Зоя. – Ах… Москва льстива. Она преклоняется перед людьми, занимающими такое громадное положение, как ваше…» (26.189,195)87. Работница модной мастерской Лизанька называет Гуся «Ваше сиятельство» (26.381), администратор Зои Аметистов «уважает» Гуся за то, что он, в отличие от старого графа Обольянинова, не пешком ходит, а на машине ездит, имеет семь комнат и двести червонцев в месяц (26.195), наконец, пафос самохарактеристики этого героя пьесы также призван подчеркнуть потенциал типического в нем: «Гусь. – Гусь, ты пьян. <…> Ты один только знаешь, почему ты пьян, но никому не скажешь, ибо мы, Гуси, гордые. Вокруг тебя Фрины и Аспазии вертятся, как легкие сильфиды, и все увеселяют тебя, директора. Но ты не весел. Душа твоя мрачна» (26.205). Фамилия Гуся в этом монологе получает веское подтверждение нарицательного обозначения ею «гуся» = влиятельного богача во власти, образ которого можно найти в любом обществе и в любую эпоху, – имена древнегреческих гетер, Фрины и Аспазии, этому способствуют. В первых редакциях ЗК Булгаков вводил персонажа под именем «Мифическая личность», явно обозначая типичную ситуацию в Москве – существование подставных лиц, прописанных в квартирах горожан с целью не допустить реального подселения. В пьесе эта «личность» объясняет милиционеру свое присутствие так: «…Я, видите ли, не проживаю в этой комнате. Тут недоразумение. Меня и вовсе в этой квартире нет. Фактически я нахожусь в данный момент в Нижнем Новгороде. Я, по секрету вам скажу, что в этой квартире – я Мифическая личность» (26.402). В повести «Жизнь господина де Мольера», высказывая оценку пьесе французского драматурга «Сганарель, или Мнимый рогоносец», Булгаков описал скандал с неким зажиточным горожанином на премьере и определил его суть: Мольер «вывел на сцену общий тип ревнивца и жадного собственника. Есть подозрение, что многие узнали себя в этом Сганареле, но были умнее того буржуа, который кричал в партере» (24.229).
Приведенный в повести о Мольере М. Булгаковым исторический факт: использование театрального зала во дворце Малый Бурбон, где Мольер ставил свои пьесы, для содержания в нем арестованных государственных преступников (24.213) в эпоху Фронды, противоправительственной смуты, вызванной произволом властей в деле наложения новых податей и в лишении свободы зажиточного городского класса88, использовался писателем еще раз, в его романе «Мастер и Маргарита» при описании сна председателя домкома Никанора Ивановича Босого, которому привиделось, как в небольшом по размерам, но очень богатом театральном зале от сидящих на полу граждан требовали сдать валюту, т.к. «страна нуждается в ней» (25.653), а гражданам она совершенно ни к чему. В обмен на валюту гражданам был обещан выход из театрального зала, что подтверждает их статус арестантов. Интересно, что в эту, для М. Булгакова явно типичную коллизию периодического обострения взаимодействия властей со своими зажиточными гражданами по поводу их накоплений (в библейском смысле, от Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем…» (Екк. 1:9)), писатель встроил литературную легенду, сделав одним из героев сна Никанора Босого актера Куролесова, читающего со сцены пушкинские строки из «Скупого рыцаря» (25.655). Для чего? Похоже, созданная М. Булгаковым анфилада примеров использования театрального зала для «спектаклей» особого рода, призвана отобразить, помимо типичности «игры» власти с гражданами, вечность мотива этой «игры» – стяжательство, которое присуще всем «акторам» в человеческой истории, и в силу этого факта саркастично выглядит булгаковская сцена, в которой более сильный «актор» – государство, корит в стяжательстве частных лиц. Пушкинский финал «маленькой трагедии» о скупом рыцаре («Ужасный век, ужасные сердца!»89) вполне применим к каждому «раунду» такой «игры», особенно в свете уже пушкинской анфилады в теме власти золота, создаваемой поэтом в упоминании им сцен из Ченстоновой трагикомедии «The caveteous Knight», пересказом которых якобы является его произведение90. Как отмечали еще дореволюционные литературные критики, использование ссылки на несуществующий английский оригинал не столько мистификация, сколько свидетельство обращения А. Пушкина к «бродячему сюжету»: «от проницательнаго ума Пушкина не скрылось, что, берясь за тему о Скупом Рыцаре, он выходит за пределы русской психики и русского творчества…»91
В булгаковском рассказе «Бурнаковский племянник», ведя речь о молодом московском хаме, писатель акцентирует внимание читателя на его типичности: «Публика, читающая вообще, читает плохо, не вдумываясь. Ей кажется, что фельетонные герои – это так – …чепуха… Напрасно, напрасно. Бурнаковский племянник – тип, столь же прочный, как и бессмертные типы Н.В. Гоголя. И представьте, таких бурнаковских племянников в Москве не менее 8 тысяч. По самой скромной статистике» (20.220). Без сомнения, здесь можно спорить, в каком контексте Булгаков упомянул «бессмертные типы» писателя Гоголя: демонстрируя уважительное отношение к своему учителю в литературе и подчеркивая долговременную значимость его литературного труда или прямо признавая единство своего и гоголевского творческого подхода к действительности. В этой связи интересным кажется замечание, встреченное у современного булгаковеда о вневременности типического в гоголевских персонажах: «Гоголь вывел в “Ревизоре” некую формулу российской жизни. На удивление, она оказалась применима к любому государственному устройству – будь то самодержавие, советская власть или суверенная демократия»92.
Гоголевские образы, представленные М. Булгаковым в его рассказе «Похождения Чичикова» в антураже советской эпохи, позволяют с уверенностью утверждать: Чичиков и другие персонажи из России XIX в., описанные Гоголем в его «Мертвых душах» – неумирающие типы. Именно поэтому они из «мертвого царства» двинулись «ватагой» на Советскую Русь (21.34) в булгаковском рассказе и в соответствии со своей исконной природой жульничают, снимают в аренду несуществующие предприятия (21.39), – в общем, в Советской России, «куда ни плюнь, свой сидит» (21.35).
Проблема типического и вневременного в проявлениях человеческой натуры имеет и другое измерение – возможность особого взгляда на «заимствования» в литературе персонажей и сюжетных ходов, которая приобретает характер своего рода «переклички» литераторов разных эпох в единой оценке ими человеческого «нутра», разнящейся историческим антуражем и деталями (тем, что называют «особенности эпохи»). М. Булгаков в повести о Мольере93 затрагивает важную, в том числе и для себя как автора, проблему «плагиата» в литературе, касаясь самого сокровенного в ней. Его позиция важна, т.к. именно повесть РЯ была подвергнута критике В. Шкловским, обвинившим автора в прямом заимствовании темы и сюжета у английского фантаста Г. Уэллса: «Как это сделано? Это сделано из Уэллса. <…> Я не хочу доказывать, что Михаил Булгаков плагиатор. Нет, он – способный малый, похищающий «Пищу богов» для малых дел. Успех Михаила Булгакова – успех вовремя приведенной цитаты»94.
Тема заимствований в литературе для М. Булгакова – умная и интересная вещь (5.151), потому что в ней, по его утверждению, всех озаботившихся поиском первоисточника заимствований всегда ждет неудача. В булгаковском теоретизировании о плагиате упомянута пьеса Мольера «Терзания любви», заимствования в которой могли быть произведены и у итальянца Пикколо Секки (комедия «Интерес»), и из итальянской пьесы «Любовные неудачи», и из произведений древнего автора Горация, и из «Собаки садовника» Лопе де Веги. Мольер, делает вывод М. Булгаков, «весьма много читал, в том числе и по-испански» (24.218), и неслучайно своим многочисленным обвинителям в плагиате говорил: «Я беру мое добро там, где его нахожу», намекая этим на те заимствования, которые производились в том числе и у него (24.217). Снимая проблему поиска первоисточника на примере творчества Мольера, М. Булгаков предлагал сравнивать качество произведений, отметив, что несмотря на странную манеру Мольера брать сюжеты у предшественников, перенося к себе некоторых «чужих» персонажей и даже целые сцены, «все, заимствованное Мольером, в его обработке было неизмеримо выше по качеству, чем в оригиналах» (24.217). Что это, как не косвенное признание в литературных заимствованиях своего рода института творческого соревнования авторов? Если признать и принять эту булгаковскую позицию по поводу заимствований в литературе, то поиск «первоисточника» в череде похожих литературных произведений разных авторов отходит на второй план, а на первый выдвигается поиск и определение общей темы в «заимствованиях» и специфика авторских акцентов в ней.
Интересно, что подобное же мнение о «бродячих сюжетах» высказал современник М. Булгакова, знаток романтизма Н. Берковский. Рассуждая о заимствованиях в новеллах, он отметил, что оригинальность автора в этом древнем жанре, связывающем литератора либо фактичностью сюжета, либо традиционностью своей редакции, может проявиться только в своеобразии трактовки: «именно на авторской субъективности лежит ударение, когда оценивают обработку бродячего анекдота»95. Собственно, позиция «позднего» В. Шкловского по «плагиату», сформулированная в его труде «Повести о прозе», перекликается с булгаковской: «Мир земли оказался круглым. И рисунок воды или рисунок земли – другой. Мир закруглился. Искусство запечатлевает изменения мира. В этом измененном мире многое повторяется. Но оно повторяется в «снятом виде». Переосмысленным» 96. «…Апулей начал свою книгу «Золотой осел», которую сам он называл «Метаморфозы», словами: «Вот я сплету тебе на милетский манер разные басни». Тут ясно, что басни уже существуют, если они сплетаются»97. Трудно отрицать, что и В. Шкловский, и М. Булгаков подразумевают одно: заимствования свидетельствуют о круге чтения литератора или драматурга, о вечности тематики большой литературы, отображаемой в «бродячих сюжетах», и о творческом потенциале литератора.
В этом «вечном круговороте» идей, сюжетов и персонажей в каждую эпоху литераторы ставят свои акценты, сохраняя общую основу – так вершится таинственная связь времен. «О, связь времен! О, токи просвещения!» (24.150) – восклицает булгаковский Рассказчик в повести о Мольере, упоминая о заимствованиях у французского драматурга в русской литературе. Так, юный А. Пушкин в целом стремился к подражанию Поклену (Мольеру), грибоедовский Чацкий похож на мольеровского Альцеста – Мизантропа (24.152), а финал пьесы «Горе от ума» практически дословно повторяет финал «Мизантропа». Во многих странах мира будут сочинять подражания пьесам Мольера и писать переделки его пьес на протяжении трехсот лет, – эти факты, приведенные в булгаковской повести о великом французе, важны для определения позиции писателя в споре литературных критиков рубежа XIX-XX вв. по вопросу границ и, соответственно, актуальности типического в литературном творчестве, т.к. только существованием вневременных констант в человеческой природе, изображаемой в мольеровских пьесах, можно объяснить их неувядаемость.

