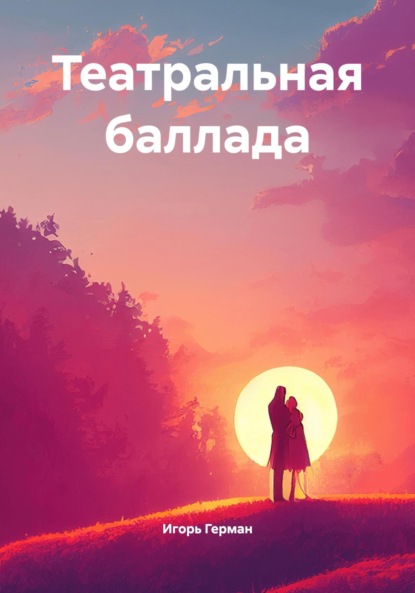
Полная версия:
Театральная баллада

Игорь Герман
Театральная баллада
ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
С творчеством Игоря Германа я познакомился недавно – и трёх лет не прошло. Уже после прочтения первого его рассказа стало ясно: в мой актив добавился писатель, в чьи произведения я стану внимательно вчитываться. Так и получилось.
Чтение литературных текстов – часть моей профессии. Как известно каждому, выполнение любых должностных обязанностей не всегда радостно, но появление в редакционной почте прозы писателя из Минусинска вызывает исключительно положительные эмоции.
Опубликованные в альманахе «Енисей» повести Игоря Германа «Судный день», «Миссионеры и язычники», пьеса «Реакция Вассермана» пронизаны правдой в широком и глубоком смысле слова. Живые герои действуют в реальных ситуациях, вместе с ними читатель переживает душевные смятения, ищет выход из сложных положений, решает трудные задачи. И всё происходящее закручено увлекательным сюжетом. Художественная ткань повествования органично переплетается с публицистикой.
Автор пытается решить стоящие перед человечеством острые проблемы, над которыми издавна бьётся русская и мировая литература: как быть; что делать; кто виноват; что с нами происходит?… Проблемы вечны, вряд ли когда-то они будут окончательно решены, но истинная литература обречена на поиски этих решений.
Много внимания уделяет Игорь Викторович отношениям в семье. В наше время стремительных перемен нелегко сохранять устоявшиеся семейные ценности. От писателя в данном направлении требуется всестороннее понимание ситуации и аргументированное деликатное решение вопроса. Всё это присутствует в произведениях Игоря Германа.
Автор не занимается словесной эквилибристикой, не ныряет в дебри авангардизма. Он доказывает своим творчеством, что и традиционный, веками выверенный подход к слову далеко не исчерпал себя, позволяет выразить много нового, сокровенного, взволновать читателя, заставить задуматься над окружающим миром и своим местом в нём.
В 2017 году при поддержке Красноярского представительства Союза российских писателей вышла дебютная книга И. Германа «Премьера» – сборник рассказов и повестей. В 2020 г. – роман жизни «История одной семьи».
По профессии Игорь Герман – актёр драматического театра. Служит в труппе Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (г. Абакан). Не только прозаик, но и драматург. Его пьесы публиковались в литературно-художественном журнале «Современная драматургия» (г. Москва). Постановки по его пьесам осуществили академические театры городов России: Уфы, Симферополя, Новгорода, а также Абакана и Оренбурга. Пьесы переведены на башкирский и татарский языки.
Герман Игорь Викторович – член Красноярского представительства Союза российских писателей, Союза российских писателей, а также Союза театральных деятелей.
Александр Ёлтышев,
заместитель главного редактора альманаха «Енисей» (г. Красноярск),
член Союза российских писателей, Союза журналистов России, лауреат конкурса имени И. Д. Рождественского в номинации «Поэзия», победитель краевого творческого конкурса в номинации «Лучший очеркист».
Автор признателен своей супруге Ирине за помощь, поддержку и понимание.
Корректор – Герман Ирина Витальевна
***
Россия, 1997 год.
Провинциальный городок-стотысячник.
Здесь, как и во всей стране – дикое поле. Везде и во всём – разгром, развал, разруха. Предприятия города, ещё десять лет назад, если и не процветающие, то хотя бы понимающие смысл своего существования и цель своего производства, теперь, в новых условиях жизни, утратили смысл и не видели цели. Разорвано большинство производственных коммуникаций – в огромном больном организме каждая клеточка выживала, как могла. «Выживали, как могли» – ключевая фраза того времени, не так далеко от нас ушедшего.
Выживали, как могли, все: рабочие на предприятиях, крестьяне на селе, врачи в больницах, учителя в школах и даже несчастные артисты в театрах. Почему несчастные? Да потому что в эпоху перемен о самой бесполезной сфере человеческой деятельности – искусстве – вспоминают в последнюю очередь, если вообще вспоминают.
С 1995 года в стране начали пробно не платить зарплату. Вернее, задерживать её. В первый раз задержали на месяц. Будто хотели посмотреть, что из этого выйдет и выйдет ли что-нибудь. Работники, не получившие ни пятого, ни двадцатого, остались в недоумении, но промолчали, потому что повлиять на ситуацию не могли. Промолчали, продолжая трудиться. Тогда адреналина добавили ещё – время невыплаты увеличили. И опять же никто не смог ни на что повлиять: к кому обращаться, на кого жаловаться?.. – общий кризис в связи с переходом экономики на новые рельсы. Всякое преобразование предполагает ломку старого и больного, чтобы на его место пришло молодое и здоровое. Не надо паниковать, надо просто немного потерпеть, и скоро всё будет замечательно. Правда, официально ситуацию так никто не озвучивал, но неофициально – именно так подразумевалось. Поэтому или не поэтому, но страна продолжала молчать и работать. Удивительно, но, в самом деле, что тут сделаешь?.. Даже если, скажем, театры в такой ситуации и вышли бы на забастовку, их протеста всё равно бы не заметили – мало бы кто обратил на это внимание. А так пусть через два-три месяца, покрутив и прокрутив, но денежку людям вернут, как-никак эти люди – государственные служащие. Вот так здраво, кстати, рассуждая, театры продолжали работать и выпускать спектакли в условиях, когда работать стало не за что, а выпускать спектакли – не на что.
Но задержка заработной платы в масштабах всей страны, видимо, приносила кому-то хорошую выгоду, потому что невыплаты стали системой, а их сроки, будто резиновые, продолжали и продолжали растягиваться. Всё логично: если зарплата не выдаётся вовремя, значит, как и с зажиганием звёзд, это тоже кому-нибудь нужно. И вот, 1997-98-ой годы стали чемпионскими по срокам её задержки. В ту недобрую эпоху время безденежья в театрах доходило до полугода.
Экстремальные полгода как-то надо было прожить, и руководители театров на местах договаривались с руководителями предприятий: в счёт будущих зарплат, через неопределённый промежуток времени и т. д – приобретали у них производимую пищевую продукцию. Договаривались с молокозаводом, мясо-колбасными цехами, сельскохозяйственными производителями, хлебозаводом. Продукты привозили прямо в театр и выдавали, кто сколько возьмёт. Экономически прижатые работники иногда выбирали продукцией всю будущую зарплату. Так что, когда денег на хлеб не оставалось, а в театре производилась мясо-молочная отоварка, масло, в прямом смысле, приходилось намазывать прямо на колбасу. Но недолго. Потом опять строгий пост.
Дома готовили очень экономно, и из самых дешёвых ингредиентов: немного картошки, овсяная крупа, чуток подсолнечного масла, зелень в летний период – всё, суп готов.
Одиночке выжить в таких условиях проще, семьёй – гораздо сложнее. Нужно ведь и ребёнка кормить, и самим что-то есть, и, самое главное – вынести тяготы психологически.
Но надо сказать, что деньги, в виде заработной платы, пусть небольшими частями, но иногда выдавались, в том числе и в театрах. Порции очень скромные, порой совсем смешные, они всё же приходили на расчётные счета и выплачивались служащим. Копеечка выделялась так, чтобы особенно не баловать, но и чтобы с голоду не умирали. Народонаселение удивлялось, конечно: как, мол, такое может быть, когда работаешь, но ничего за это не имеешь, но смиренным удивлением дело и заканчивалось.
Единственное, что утешало в таких обстоятельствах, это увещевание из всех средств массовой информации о том, что всё происходящее в стране не так плохо на самом деле, что всё это даже хорошо, правильно и лучше, чем было прежде.
Приходилось наступать себе на горло и верить на слово.
Длился такой тест на прочность несколько лет.
Не каждая семья могла выдержать подобные испытания: голодом назвать нельзя, это не голод, конечно, как таковой, но люди ломались. Ломались их характеры, взаимоотношения, семьи. Кто-то искал спасения в алкоголе, кто-то в криминале, кто-то в сектах, а кто-то в бизнесе, воспринимая его теперь как откровение, свет и истину. Друг друга не обвиняли за внезапные перевёртыши, когда смотрели на родных, знакомых и не узнавали их. Понимали – время такое. А в такие времена каждый озабочен лишь проблемой собственного выживания.
На официальном уровне выдали разрешение – обогащайтесь! – и прозвучавшее слово с экрана телевизора стало индульгенцией. Поэтому обогащались все, кто мог. Кто не мог обогащаться, тот просто работал.
В провинциальном городке-стотысячнике, о котором пойдёт речь в этой истории, по статусу полагалось быть драматическому театру. Ну, раз полагалось, значит, он и был. Существовал уже более шестидесяти лет. Во времена лихие, конечно, не процветал. Процветать дано каждому театру, но, как и всякой творческой единице – только определённый период и в предназначенное судьбой время. Время же этого театра либо уже ушло, либо ещё не наступило.
Здесь люди тоже, как умели, так и выживали. Считали каждую копейку, когда она ненадолго появлялась. Девиз новой жизни – обогащайтесь! – не работал. В храме Мельпомены нет предмета для обогащения, как такового. Даже если кто-то и сумеет где-то что-то пощипать, то до обидного мало: по крохам и мелочам. Сразу оговорюсь – это справедливо до момента появления в театрах должности «художественный руководитель», то есть совмещения в одном лице размахов главного режиссёра и возможностей директора. В описываемое время в провинциальной глуши этой всеобъемлющей должности пока ещё не существовало.
Итак, к концу очередного театрального сезона, к самому его закрытию, в творческом коллективе разгорелся скандал. Выяснилось, что директор сдавал в аренду театральный буфет какому-то знакомому предпринимателю. Сам факт аренды не представлял ничего криминального, напротив, это выгодно и разумно. Вот только форма аренды, когда она стала известной, оказалась для коллектива полной неожиданностью, даже шоком. Вместо денежки в общий театральный котёл предприниматель вносил арендную плату весьма специфичным образом: в виде десяти порций пельменей в день лично для директора. Конечно, полуголодным подчинённым это известие, мягко говоря, не понравилось. Договор с предпринимателем на подобных условиях действовал уже более года. За это время на таком количестве пельменей, директор – приятный молодой человек с красивой шевелюрой и густыми пшеничными усами – поднялся, как на дрожжах. Коллеги и прежде зло подшучивали над ним, предполагая, что директор пухнет с голоду, когда все остальные тощают, а уж когда выяснилась вся правда – тут, извините, ни на один роток не накинешь платок.
Дело дошло до городского отдела культуры, который, хорошо поискав, у проштрафившегося директора нашёл ещё кое-какие грешки, потому что директора сразу уволили. Прямо под занавес закрытия сезона. И поэтому сезон закрывали уже без директора.
Ну, знаете, при всём справедливом негодовании, то, что сделал этот симпатичный руководитель с красивой шевелюрой, трудно назвать обогащением. Может, и уволили его только из-за неудобства ситуации. Это ведь даже не воровство, это так… больше стыда, чем выгоды, честное слово.
Руководство культурой города пообещало на собрании коллективу театра подыскать за лето нового директора.
И руководство сдержало слово.
В начале сентября в кабинете директора уже сидел новый человек.
Звали нового человека Вадим Валерьевич Лавронов. На вид лет сорока, чуть выше среднего роста, внешне приятный, стройный, живой. Лицо интеллигентное и без выраженных следов страстей. Работал заместителем директора городской перчаточной фабрики. Предприятие разорилось, закрылось, и он, как прочие товарищи по несчастью, остался без работы. По знакомству, через третьи руки, ему предложили порулить театром, на что он вынужденно согласился, просто потому что других предложений не поступало. От театра Вадим Валерьевич в прежней своей жизни был далёк, искусством не увлекался, на спектакли не ходил и вообще, что такое театр, представлял себе лишь на пальцах.
Год назад от Лавронова ушла жена – нашла себе нового сокола, более удачливого и предприимчивого. Уже не молодая девочка, конечно, могла бы и подумать, прежде чем перелетать в другое гнездо, но открывшиеся реалии новой жизни многим закружили головы и многих обманули. Бог с ней: ушла, так ушла. Сына жаль, сын подросток. Может надломиться ребёнок, глупостей наделать. Соблазнов вокруг столько, что только успевай отмахиваться. Матери не до него, она своей жизнью занимается. Побежала, как девочка, за иллюзиями.
Что говорить, подобный поступок жены наносит сильную психологическую травму брошенному супругу. То, что понижает его самооценку – мало сказать. Это такой удар ниже пояса, после которого нужно долго восстанавливаться, и ещё не факт, что без потерь для здоровья удастся это сделать. Вадим Валерьевич, как и всякий подобный пострадавший, долго находился в глубоком нокауте, переживал и пытался забыться.
Перчаточная фабрика не выдерживала конкуренции с нахлынувшим отовсюду валом колготок, носков, чулок, варежек и прочего дешевого низкокачественного импорта. Случаются в жизни периоды и у человека, и у предприятия, и у государства, когда проблемы набрасываются стаей, как волки: кусают и рвут. А выстоять нужно. И выжить нужно. Ведь какой бы долгой ни была чёрная полоса, жизнь всё равно длиннее. И проблемы-звери когда-то отступят, и залечатся раны, и даже воспоминания сотрутся. Но для этого нужно выдержать бой, силы нужны – и физические, и духовные.
Летом 97-го перчаточная фабрика приостановила свою работу. Коллектив отправили в бессрочный отпуск. Формально фабрика существовала, но все понимали, что это приговор. Уволенные работники разбежались, кто куда мог, и пристроились, кто куда сумел.
Попав в театр за неделю до выхода труппы из отпуска, Лавронов решил осмотреться. Первым делом собрал у себя в кабинете совещание, на которое пригласил администраторов, во главе с заместителем директора по зрителю, главного и очередного режиссёров, а также заведующего постановочной частью.
Администраторы – это творческий барометр театра. Они распространяют билеты на спектакли, умеют уговорить и убедить, встречают и провожают публику и как никто знают вкусы тех, кто приходит в храм искусства за духовной пищей.
Главный режиссёр в театре называется главным не только потому, что руководит творческим процессом, но также вследствие уровня своей ответственности: именно он определяет генеральную творческую линию. Всё, что зрителю предлагается на сцене – это главный режиссёр. Всё, что там нравится – это главный режиссёр, даже если он и не является постановщиком данного спектакля: он взял эту пьесу в репертуар и разрешил её постановку. В то же время спектакли, неприятно поражающие зрителя, не следствие такой-то драматургии и не требование такого-то времени – это опять вкус и выбор главного режиссёра. Зритель, как известно, голосует ногами, так вот: в театр он голосует или из театра – всё это заслуга именно главного режиссёра. Очередной режиссёр в театре – это второе творческое лицо. Как правило, он моложе, неопытней и подчинён творческой воле главного.
Заведующий постановочной частью, или просто завпост, отвечает за всю техническую составляющую спектаклей, начиная от их подготовки, выпуска и далее, на весь период их эксплуатации. Под его руководством работают декорационный цех, пошивочный цех, бутафоры, костюмеры, реквизиторы, монтировщики, гримёры и так далее. Завпост договаривается, обговаривает, ищет, находит, закупает и доставляет. В его ведении кубометры древесины на изготовление декораций и последний гвоздь. В его обязанностях – бегать, суетиться, следить, ругаться и добиваться. Словом, хороший завпост и сам должен уметь крутиться, как поросячий хвостик, и при этом отслеживать своевременное и качественное исполнение своих обязанностей всеми техническими цехами. Вот так, если вкратце.
Именно эту ударную группу и собрал в своём кабинете новый директор театра.
– Товарищи, – начал Лавронов, обращаясь к присутствующим. – Товарищи… или господа?.. как обращаться к вам, я теперь даже и не знаю…
– Обращайтесь: «коллеги», – посоветовал завпост, сорокапятилетний мужичок, с густыми баками, наползающими на щёки и изрядно поредевшей растительностью на голове. – Так никого не обидите. А то у нас и товарищи есть, и господа.
– Хорошо, – согласился директор. – Так вот, уважаемые коллеги… Я в театре всего второй день, поэтому, как вы понимаете, ничего пока в нём не понимаю. Но мне не стыдно в этом признаться, потому что я хочу научиться. И учиться буду прямо с сегодняшнего дня. Я и пригласил вас на это совещание для того, чтобы вы ввели меня в курс дела. Так сказать, по первому кругу объяснили бы мне, в чём конкретно состоят ваши обязанности, чтобы, исходя из этого, я имел бы представление об обязанностях моих. Мне сказали, что я отвечаю за бесперебойную работу театра. И всё. А как я буду это делать, это уже мне предстоит решать на месте. – Лавронов выдохнул и виновато улыбнулся. – Ну, вот, я на месте, и мне нужно составить себе план действий. Прошу. Давайте начнём. – Он заглянул в открытый блокнот, лежавший перед ним. – Барабанщикова Алла Константиновна…
– Это я, – откликнулась полная немолодая женщина с высокой причёской крашеных тёмно-каштановых волос. – Я замдиректора по зрителю, главный администратор.
– Очень приятно. Слушаю вас.
– А-а… о чём говорить?
– О проблемах. О своём цехе.
– Ну… наш цех администраторов состоит из трёх человек: меня, Ирины Дмитриевны… – она кивнула головой в сторону рядом сидящей крашеной блондинки с грубоватыми чертами лица. – Так вот, мы…
– А третий кто? – перебил Лавронов.
– А третий наша актриса, она пока в отпуске, выйдет вместе со всеми.
– Так она актриса или администратор?
– Актриса, актриса. И администратор. – Видя, что директор непонимающе приподнял брови, Барабанщикова пояснила: – У нас актёры вынуждены подрабатывать. Завтруппой и два помощника режиссёра – тоже актёры. Конечно, это должности освобождённые, и в добрые времена их занимают другие люди, но мы разрешили актёрам совмещать. У нас и полы в театре моет актриса после утренней репетиции и вечером.
– Что, такая маленькая зарплата? – осторожно поинтересовался Лавронов.
– Меньше, чем вы думаете. – Главный администратор назвала цифру. – Это у нас получают мастера сцены. А молодые артисты на порядок меньше.
– Кошмар… – тихо выдохнул новый директор театра. – Кошмар.
– Так вот, – продолжала Алла Константиновна. – Наши обязанности насмерть схвачены с нашими проблемами. С одной стороны нужна наполняемость зрительного зала, с другой – у людей нет денег, и вообще интерес к театру упал… в связи с такой жизнью. И как нам быть в таких условиях?.. – Она вздохнула и пожала плечами. – Вот, собственно… Такие дела.
– Понятно, – пытаясь придать голосу оттенок оптимизма, покачал головой Лавронов. – Будем исправлять ситуацию… по мере возможности. – Он опять заглянул в блокнот. – Литров Александр Сергеевич.
Все присутствующие в кабинете дружно рассмеялись. Даже строгая Алла Константиновна. Вадим Валерьевич непонимающе поднял на коллег взгляд.
– Саша, тебя сразу раскусили, – обратилась к завпосту администратор Ирина Дмитриевна.
– Хитров, – поправил директора просмеявшийся завпост. – Моя фамилия Хитров.
– Извините, – чуть смутился директор. – Так записал… небрежно.
– Ничего, – бодро откликнулся завпост. – И так, и так правильно.
Хитров Александр Сергеевич чётко, внятно и по существу растолковал свои обязанности новому директору театра.
– А проблем у меня никаких нет, и не будет, – сказал он в заключение своего слова, потом добавил, – если у театра будут деньги.
– А если не будут? – спросил Лавронов.
Хитров вздохнул и театрально развёл руками.
– А если не будут, тогда одни проблемы. У нас как у Остапа Бендера: утром – деньги, вечером – стулья. И никак не наоборот. Вот смотрите… нужны пиломатериалы – без бруска не изготовить ни одну декорацию. Фанера, ДВП, ткань, краски, клей, фурнитура. Под честное слово всё это в магазинах не дают. Нынче все деньги требуют. Так что, как ни крути – стулья только вечером. Утром – деньги. Основа всех театральных декораций – брус. На брус набивается ДВП – вот тебе и колонна дворца, и хижина дяди Тома, и все прочие условности, только успевай раскрашивать. Кое-где и металл нужен, конечно, но это дорого, сейчас лучше обходиться деревом.
– Кто придумывает декорации? – спросил Лавронов. – Вы?..
– Боже упаси, – решительно открестился завпост. – На это есть художники.
– А художников я пригласил?.. – Директор внимательно просмотрел фамилии в своей записной книжке.
– Вы и не могли его пригласить, потому что он ещё в отпуске, – улыбнулся Хитров и серьёзно добавил: – Он у нас один остался. Художник. Главный. Очередной ушла в конце сезона. Так что вся нагрузка на него одного, бедолагу. – Хитров мужественно опустил вниз уголки губ и уверенно качнул головой: – Но он справится.
– Хорошо… Спасибо. – Директор поискал в записной книжке две последние должности. – Наши режиссёры…
– Дони Павел Вячеславович, – откликнулся главный. – Это я.
– Водорезов Иван Геннадьевич, – поднял руку очередной режиссёр.
– Наша задача, – ответил за обоих главный, – ставить спектакли. Конкретно моя – брать в постановку такие пьесы, которые смотрел бы зритель. Всё. Конечно, ещё много нюансов, но суть, и смысл в этом.
– Понятно… – Лавронов в раздумье кусал губы, собирая воедино в голове весь полученный объём новой информации. – Значит, нам нужны новые спектакли, которыми мы могли бы зарабатывать деньги?.. А денег на постановку спектаклей нет?.. Замкнутый круг. – Он обвёл взглядом присутствующих. – Предложения будут, товарищи?.. – И поправил себя. – Коллеги?..
Коллеги промолчали.
– Тогда давайте рассуждать так, – продолжал директор. – Надо выходить из положения своими силами. Скажу вам честно: назначая на должность, меня предупредили, что до Нового года деньги на постановки городом выделяться не будут. Это точно. После Нового года – неизвестно. А нам надо жить. Скажите мне… Алла Константиновна, что, прежде всего, нам желательно сделать до Нового года? Какие спектакли, имею в виду?.. Там… грустные, весёлые, ужастики? Я не знаю.
– Ну, ужастиков людям хватает и без театра, – серьёзно ответила главный администратор. – Зритель хочет комедий. Хоть в театре отвлечься от всего. От этих ужастиков. И сказки нужны новые. И на Новый год обязательно, и сейчас. Основной доход театра от детских спектаклей. Новогодняя неделя – половину сезона стоит.
Лавронов перевёл взгляд на главного режиссёра.
– Павел Вячеславович, в театре существует творческое планирование?.. Ну, что вы собираетесь ставить в этом сезоне?..
– Конечно. Планы есть, и они большие. Другое дело, как всё это реализовать в наших условиях?.. На открытие сезона нужен новый спектакль.
– Открытие когда?
– Это вам решать. Когда будет готова премьера.
– Ясно. – Лавронов в задумчивости почесал голову. – Тогда так: что планируется на открытие?
Главный режиссёр назвал одну из известных пьес А. Н. Островского.
– Фига себе, – тихо заметил завпост. – Это какие бабки впалим на костюмы. Спектакль-то костюмный. Или в джинсах будут играть?..
– Нет, не в джинсах, – с достоинством возразил главный режиссёр. – Спектакль будет решён традиционно.
Завпост даже присвистнул.
– Ну, Вячеславыч, ищи спонсора.
– А почему я должен искать? – всерьёз отнёсся к словам завпоста главный режиссёр. – У нас есть директор.
– А директору где взять такие бабульки?.. Если только квартиру продать.
– Я не знаю, это не моя работа.
– Погодите, погодите, – остановил их препирательство Лавронов. – Давайте дальше разбираться. – Он обратился к очередному режиссёру. – Иван Геннадьевич, у вас какие планы на текущий год?
– Планы театра – мои планы, – чуточку язвительно ответил Водорезов.
– Я понимаю, – оставался серьёзным Лавронов. – В смысле постановки.
– Какие утвердят.
– Комедию предложить можете?
– Партия скажет «надо», комсомол ответит «есть»!
– Какую-нибудь не очень затратную?
Водорезов пожал плечами:
– Если потребуется, найдём и такую.
– Та-ак… – Директор собрался с мыслями. – Уважаемые коллеги, как вы отнесётесь к следующему моему предложению?.. Значит, сейчас мы запускаем в производство комедию и одновременно с ней детскую сказку. Попробуем финансово вытянуть и то, и другое. Работаем до Нового года этими двумя новыми спектаклями и спектаклями вашего старого репертуара. К Новому году выпускаем зимнюю сказку, которой… Если я правильно понял, Новый год для театра, это…



