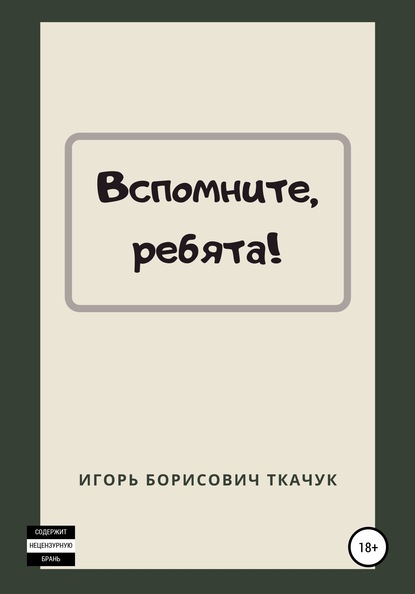 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Достоинством жилья было расположение. Путь пешком к главному корпусу университета, в котором до 1964 года располагался юридический факультет, занимал 15–20 минут. Чуть меньше времени тратилось на дорогу из квартиры до здания ДЮСШ № 1.
Забегая вперед, отмечу, что недостатки нового жилища скрашивало время, проведенное за его пределами. Утром я уходил на лекции. После окончания «пар» занимался в библиотеке, тренировался в университетском спортзале на гимнастических снарядах или в зале бокса ДЮСШ № 1.
Другие первокурсники устраивались с жильем на сходных и даже на худших условиях. Мои друзья Геннадий Лозовой и Анатолий Сапин поселились неподалеку на ул. Суворова в подвальном помещении из двух комнат с влажными стенами. Ребята жили в проходной комнате. Хозяева – ветхие пенсионеры «баба Паня» и «дед Фунтик» – занимали дальний апартамент. В каждой комнате впритык к потолку имелись узкие горизонтальные окошки, позволявшие рассматривать обувь прохожих. Выход на поверхность пролегал через крошечный тамбур с примыкавшей к нему крутой лестницей. Это подобие корабельного трапа присутствовало в левом торце помещения. Зато по фронту сеней располагался посудный шкаф с широкими створками.
Время от времени забывчивые друзья квартирантов распахивали дверцы этого вместилища кухонной утвари в поисках пути наверх, удивляясь возникшим на пути полкам с кастрюлями. Иногда подобным ошибкам способствовало употребление посетителями донских вин. Такое изредка случалось по уважительным поводам, как, например, день рождения Гены Лозового. Хозяева квартиры, в отличие от «Бабуши», против гостей не возражали. Более того, сам «Фунтик» охотно участвовал в нечастных застольях.
На поверхности вход в квартиру соседствовал с дощатым забором гвоздильного заводика (позже тут возник ТСЖ Гвоздь). Там, за ветхой оградой, круглосуточно «гвоздил» одинокий станок, стук которого отдавался в комнате друзей. Достоинства жилья заключались в близости места учебы, дешевизне и добром нраве хозяев.
Семейные отношения и образ жизни этой супружеской пары заслуживают доброжелательного описания не менее, чем быт старосветских помещиков Н. В. Гоголя. «Фунтик», получил прозвище за частое употребление этого слова при описании покупок лакомств в былинные времена. Впоследствии, в связи с появлением в Ростове кубинских студентов, квартиранты присвоили старику второе имя – «Фуэнтес», которым квартирохозяин якобы мог называться в общении с представителями Острова Свободы.
Дневной распорядок «Фунтика-Фуэнтеса» был незыблем на протяжении нашей учебы. Каждое утро после завтрака, невзирая на погоду, «баба Паня», выдав рубль на обед, отправляла мужа в «свободное плавание» по улицам города. Местом пребывания «Фунтика» в первой половине дня была площадка у памятника В. И. Ленину на бывшей ул. Энгельса, перед входом в городской парк. Там с раннего утра до поздней ночи вели нескончаемые дебаты футбольные болельщики. В то время главной темой дискуссий служили достижения и промахи легендарного «Пантюши» – Виктора Понедельника – нападающего Ростовского СКА. Обедал «Фунтик» в кафе «Дружба» – напротив памятника. Эта точка общепита славилась сытной фирменной солянкой, на оплату которой уходила выданная «бабой Паней» наличность. После обеда «Фунтик» совершал поход на набережную и вечером возвращался домой. «Баба Паня» тратила день на посещение рынка и домашние дела.
После перехода на третий курс Анатолий и Геннадий поселились в студенческом общежитии, однако вплоть до окончания учебы периодически навещали бывших квартирохозяев. «Фунтик», предполагая, что уйдет в иной мир первым, не раз тревожился о дальнейшем обустройстве жизни «бабы Пани». Действительность повернулась иначе. Сначала умерла супруга. «Фунтик» сошелся с рекомендованной доброхотами старушкой и горько жаловался друзьям на то, что сожительница отравляет остатки жизни склочным нравом и жадностью.
Некоторые однокурсники использовали другие варианты обустройства жилья. Трое наших ребят сняли вскладчину флигель на Октябрьском шоссе. Дорога оттуда к месту учебы занимала полчаса пешего хода или пятнадцать минут поездки на троллейбусе. По условиям аренды жильцы самостоятельно приобретали дрова и топили печь. Флигель с покупными дровами снимали и некоторые наши девчата.
Осень колхозная
Накануне «Дня знаний» стало известно, что с началом учебы придется повременить до 1-го октября. В течение месяца первому и второму курсам предстояло заниматься уборкой кукурузы в колхозе «Колос» села Большие Салы Мясниковского района Ростовской области.
Согласно архивным материалам Большие Салы (первоначальное название «Бахчи-Салах») основали в 1779 году армяне, переселившиеся из Крыма по указу Екатерины II. История свидетельствует, что многие переселенцы были людьми незаурядными. Из села вышел добрый десяток известных в СССР и России людей, в числе которых местные жители с гордостью называют «донского армянина» советского киноактера Павла Борисовича (Богосовича) Луспекаева (Луспиканяна) – сыгравшего в «Белом солнце пустыни» таможенника Верещагина. Некоторые авторы биографических заметок называют актера Луспекяном, однако эта ошибка опровергается многочисленными Луспиканянами, по сей день проживающими в Б. Салах.
В 1877 году в селе побывал проездом гимназист А. П. Чехов, следовавший вместе с дедушкой из слободы Большая Крепкая в Ростов. Путники остановились покормить лошадей у знакомого дедушке «богатого армянина». С дочерью этого жителя «Бахчи-Салах» связано появление рассказа «Красавицы» о шестнадцатилетней девушке-армянке, поразившей будущего писателя необыкновенной красотой.
Сюжет рассказа построен на контрасте между наводящими уныние картинами забытого богом степного села и восторженным восприятием красоты «юной армяночки».
Таким же унылым показалось это село и студентам-первокурсникам юрфака РГУ в сентябре 1961 года. Те же жара, пыль, тряские дороги, ряды жилищ с закрытыми ставнями и безлюдные даже днем улицы. К тому же, в отличие от времен А. П. Чехова, жители «Бахчи Салов» состояли исключительно из армян, без единого представителя иных национальностей. Это подтвердили работники администрации. Впрочем, указанное обстоятельство никак не препятствовало налаживанию нашего быта и добрых деловых отношений с работодателями.
Курс поселили на полевом стане в окружении кукурузных плантаций, в пяти километрах от центральной усадьбы. Комнату побольше отвели ребятам. Другую, меньшей площади – нашим девчонкам. Спальными местами служили разложенные на полу матрасы. К ним прилагалось по тонкому одеялу.
На второй день ребята случайно обратили внимание на два плаката, украшавших внутреннюю стену нашего жилья. Агитационный пафос полос красной ткани запечатлелся в памяти благодаря синтаксическим особенностями и орфографии.
«Больше заботы о семенах! – настаивала одна агитка. За призывом следовало пояснение. – Какие семя, такие и племя!». Слова второй части лозунга стали паролем-отзывом нашего курса и использовались в этом качестве на протяжении пяти лет учебы.
В тексте второй агитки необычным было лишь слово «кукуруруза».
В начале 90-х память связала избыточные сочетания слогов в наименовании этого злака с реформами эстонского языка. В маленькой гордой Эстонии удвоениям гласных и согласных подвергались фамилии и имена собственные. Писатель М. И. Веллер, например, жаловался на попытку сделать его Вееллером. Город Таллин получил в наименовании долгожданную вторую букву «Н». Что поделаешь? Редупликация[21] один из инструментов укрепления национальной гордости и символ избавления от тоталитарного прошлого. Возможно, именно эстонцы реализовали в свое время генетическую тягу к удвоению согласных в названии города Joppatown (Жоппатаун), что находится в штате Мэриленд, США. В этом случае не удивлюсь вступлению этого населенного пункта в побратимство со столицей Эстонии.
Вернемся же к устройству нашего полевого быта. Вода и продукты привозились. О еде стоит рассказать отдельно.
Возглавлявший нашу команду заместитель декана Игорь Александрович Андрианов объяснил условия и задачи организации быта кратко и доходчиво. По договоренности, колхоз доставлял авансом в потребном объеме все виды продуктов собственной выработки. Приготовление еды поручалось нашим девчатам. Стихийное собрание с готовностью поддержало предложение замдекана: в выборе колхозных яств себя не ограничивать, пребывание в поле употребить для накопления сил на зиму.
Добросовестность армянского коллектива по части предоставления продуктов впечатляла. Изо дня в день на нашем столе лежали мясо, яйца, мед, сливочное масло, огурцы и свежий лук. Молоко в течение рабочего дня стояло в свободном доступе в восемнадцатилитровой алюминиевой фляге. Часть вареных яиц оказывалась невостребованной. Мед и сливочное масло подавались на стол в наполненных до краев алюминиевых мисках.
У ребят зрело ощущение, что на оплату «банкета» заработанных денег не хватит, и за потребленные продукты придется доплатить сверх предполагавшихся доходов. Удивительно, но мы оказались в плюсе. В конце месяца колхоз заплатил каждому по двадцать с лишним рублей. Такие же суммы коллективное хозяйство прислало зимой дополнительно по итогам сельскохозяйственного года.
Правда, и работали однокурсники тоже ударно, в охотку. Несмотря на монотонность труда, настроение после зачисления в ВУЗ было приподнятым. С раннего утра до заката в бескрайнем поле коллектив собирал, очищали грузил на подводы кукурузные початки.
Предшествующие поколения юристов оставили первокурсникам песню «Все пташки канареечки так жалобно поют/ Студенты кукурузоньку всё рвут, да рвут, рвут…».
Дальше шли строки: «Старшой наш Габричидзе (доцент, сопровождал наших предшественников) поехал узнавать, когда ж всесильный Гужин (декан) приедет нас спасать».
Последние две строфы исполнялись студентами в колонне демонстрантов 7 ноября 1962 года в присутствии обоих героев кукурузного эпоса. Декан Александр Тихонович Гужин, шедший неподалеку, отреагировал на выходку словами: «Крамолу поете!».
Ныне, глядя на плывущий по полю кукурузоуборочный комбайн, я сознаю, что тогдашние тридцатидневные усилия нашего коллектива соответствовали одному рабочему дню такой машины.
Несомненно, радушие и щедрость колхозных руководителей объяснялись планами продолжить наше колхозно-полевое сотрудничество и в будущем. Очередное предложение поработать на полях хозяйства поступило нашему курсу весной следующего года. В конце июня 1962-го, уставшие после учебных аудиторий и завершившейся сессии, мы прибыли в «Бахчи Салах» полным составом для ударной работы на прополке овощей. На этот раз курс поселили в домах местных жителей, и ребята ознакомились с особенностями армянского быта изнутри. Еду из колхозных продуктов по-прежнему готовили наши девушки.
Поездки в колхоз, в особенности первая, сплотили коллектив. Месяц совместной работы, футбол по вечерам, бесконечные байки и анекдоты перед сном помогли детальнее узнать друг друга, выбрать близких по духу и интересам товарищей и друзей.
Помню диалог у костра между Таней Юрасовой и Геной Лозовым, сокращенным из ВВС штурманом бомбардировщика ТУ-4:
– Как же штурман определяет маршрут ночью? – вопрошала Таня.
– Чего проще! – отвечал Геннадий. – На концах крыльев включаются навигационные огни: справа зеленый, а слева красный. Лететь надо точно между ними.
Запасом смешных баек и анекдотов обладал и замдекана, честно деливший с коллективом работу, досуг и ночлег.
В этой непринужденной обстановке присваивались безобидные прозвища. Тот же Гена Лозовой, работавший некоторое время после увольнения из ВВС лоцманом в Туапсинском порту, получил наименование «Матрос». Позже, с началом изучения латыни, Геннадия переименовали в «Науту» (nauta – лат. Моряк).
Самый молодой из коллектива ростовчанин Женя Ляхов, 1942 года рождения стал именоваться «Бэби». Валентина Басалаева по созвучию фамилии возвели в ранг «Босса». Анатолия Малыгина, забившего гол в собственные ворота, припечатали «Лаврентием Павловичем». В этом случае связь между фактом и прозвищем объяснению не поддавалась. Вряд ли Л. П. Берия поддерживал такое явление, как «автогол». Но, что «написано пером (сказано сгоряча) – того не вырубишь топором».
Тогдашние прозвища закрепились в нашем общении навсегда. В этом я убеждаюсь каждый раз при встречах с бывшими однокурсниками. «Бэби», например, не избавился от этого ласкового обращения даже став профессором, доктором юридических наук.
Я получил прозвище по имени одного персонажа рассказанной мною смешной были. Правда, раскрывать второе имя не буду, поскольку применяю псевдоним в прикладных целях: для создания паролей в интернет – сети и в других случаях.
Повторный заезд в Большие Салы (Бахчи-Салах) для помощи нашим друзьям-армянам состоялся по окончании экзаменов за первый курс в конце июня 1962 года. В этот раз курс поселился в домах колхозников. Студенты занимались прополкой необозримых плантаций зеленого лука. Продуктов на питание колхоз по-прежнему не жалел. После работы развлекались футболом и волейболом.
Однажды в село привезли кинофильм. Смотрели картину под открытым небом. Имелся ли в Салах кинотеатр, сказать не могу. Шефы жили зажиточно, но замкнуто. Селяне с приезжими не общались. Во многих дворах стояли легковушки. Наш бригадир имел трофейный «Опель Адмирал», правда, с двигателем ГАЗ-51.
Воспоминания об этой экспедиции скудные. Перед мысленным взором прокручиваются ровные ряды зеленых луковых перьев, обжигающее солнце, темные из-за закрытых ставень комнаты нашего жилья. В череде дней событием стало празднование дня рождения Анатолия Малыгина – «Лаврентия Павловича». Затраты на вино из сельпо взял на себя коллектив. Благо, колхоз выдал аванс.
Жизнь шла по спирали. Работа в колхозе предваряла и завершала наш первый студенческий год. Впереди маячили каникулы.
Других многодневных выездов на работы в колхоз не было. В последующие годы учебы часть летнего времени после завершения экзаменов занимали учебная и производственная практика.
2 октября 1961 года, началась учеба. Позади остались поход в библиотеку за получением книг, выбор мест в аудиториях и соседей по студенческой скамье. Наш ряд заняли Женя Ляхов, Анатолий Сапин, Гена Лозовой, Саша Иванов и Володя Федоренко («отец Федор») – звезда университетской сборной по баскетболу.
В середине месяца во Дворце строителей состоялся вечер посвящения в первокурсники (в университете подходящего зала не было). Студенты старших курсов поразили самодеятельным концертом. Позднее выяснилось, что в организации и исполнении номеров участвовали профессионально подготовленные ребята. Некоторые из них получили музыкальное, актерское и режиссерское образование в учебных заведениях культуры и искусства и даже успели поработать по специальности. Кое-кто из наших музыкантов продолжал играть по вечерам на танцплощадках в городских парках.
В тот вечер запомнился третьекурсник Женя Руденко, завороживший зал до мурашек по спине чтением «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Такого проникновения в образ и способности передавать эмоции зрителям я не встречал. Наполненные страданиями интонации финальных слов монолога «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его!» выбили у некоторых наших девчат всамделишные слезы.
В 1966 году, когда мы с Женей оказались соседями по кабинету следственного отделения в Пролетарском отделе милиции г. Ростова-на-Дону, я убедился, что повышенная эмоциональность Евгения была не только Божьим даром, но и нередким источником служебных неприятностей. Между нами сложились добрые товарищеские отношения. Выяснилось, что Женя окончил два курса московской «Щуки», однако затем оставил искусство, увлекшись профессией следователя.
Гранит науки
Учеба началась с конфуза. Однажды в аудитории появились две преподавательницы филологического факультета с предложением провести диктант по русскому языку. Итоги проверочной работы оказались печальными. Грамотешку 30-ти однокурсников оценили на «двойку». Я удержался на «трояке». Героинями грамотности с оценкой «отлично» стали Нина Рыженкова, москвичка, работавшая до поступления машинисткой-стенографисткой, и Лида Колесник – бывшая швея-мотористка ростовской швейной фабрики (напомню, обязательным условием поступления на юрфак в то время был двухлетний трудовой стаж). На подведении итогов филологи прочли короткую лекцию о способах самостоятельного устранения языковых пробелов и предупредили, что повторный диктант ожидается перед окончанием пятого курса. Вняв тогдашним призывам «филологинь», я взял за правило постоянно держать под рукой учебники русского языка. В дальнейшем это стало постоянной привычкой. А склонность замечать грамматические ошибки в текстах позволила в первые же месяцы следственной работы раскрыть обширную сеть изготовителей поддельных документов.
Думаю, провальные результаты диктанта отражали показатели грамотности не только на нашем курсе. Вскоре после нашего диктанта газета «Неделя» (приложение к «Известиям») опубликовала заметку под названием «Прашу дац». Автор сообщения цитировал заявление на получение стипендии, написанное студентом Первого московского медицинского института. Будущий медик прибыл в столицу из солнечной Грузии, сдал вступительные экзамены и выдержал немалый конкурс. Познания абитуриента в русском экзаменаторы оценили на «отлично». Главными достоинствами заявления этого «отличника» были краткость и интуитивная понятность. Привожу текст письменной просьбы дословно: «Прашу дац стипендю. Атец инжинер. Мац хазяка».
После этого можно было промокнуть лоб салфеткой. Нашим двоечникам до подобных перлов было далеко.
Набор начальных юридических дисциплин увлечения не вызывал. Это были теория и истории (отечественная и зарубежная) государства и права, римское право, организация суда и прокуратуры, политэкономия капитализма, логика и иностранный язык.
Восприятие перечисленных предметов окрашивалось личными качествами преподавателей. Знание материала, эрудиция, умение создать атмосферу уважительного делового общения и добрый юмор отличали наших обоих историков П. Н. Соловьева (фронтовика, летчика-истребителя) и К. Г. Ф. (фамилию не называю по причине, изложенной ниже). В одном ряду с ними находился Е. И. Филиппов – преподаватель римского права. Об особенностях характера Евгения Ивановича свидетельствовало поведение на лекциях. «Римлянин», потерявший на фронте ногу, вел двухчасовые занятия исключительно стоя, отставив костыли за кафедру.
Доходчиво и увлекательно проходили лекции пожилой преподавательницы логики (Мина Павловна, фамилию, к сожалению, забыл). Этим предметом я увлекся с первого занятия. Запомнился тезис вводной лекции о том, что задача формальной логики заключается систематизации и углублении представлений о логических конструкциях, которыми большинство людей интуитивно пользуются в повседневной жизни.
Усвоенные под руководством Мины Павловны способы анализа, оценки доказательств и опровержений в дальнейшем помогали разбираться в следственных и научных проблемах.
Убедительно излагал положения политической экономии капитализма проректор по научной работе Виктор Андреевич Тищенко, человек с припрятанным под напускной серьезностью чувством юмора. Однажды во время экзамена, проректор спросил у Володи Федоренко, читал ли тот первый том «Капитала», рекомендованный в качестве дополнительной литературы. Когда после некоторой заминки «отец Федор», основным занятием которого были баскетбольные игры и сборы, дал положительный ответ, проректор продолжил: «А как обстоят дела со вторым томом?». Володя, на лице которого явственно отразилось «где наше не пропадало?», решительно ответил: «Читал, но не до конца!». Следующий иезуитский ход экзаменатора поставил страдальца в тупик: «Что скажете о различии между этими работами? О несходстве, которое очевидно даже для человека, далекого от политэкономии?
(Последовала тягостная пауза).
Ну, смелее! – подбодрил звезду баскетбола В. А. Тищенко. – Какой из томов толще?».
Уже после написания этих строк я прочел мемуары бывшего преподавателя кафедры политэкономии Университета, редактора нашей многотиражки, В. И. Марцинкевича (впоследствии научного сотрудника ИМЭМО). В этих воспоминаниях, в противовес жестким оценкам, которые Марцинкевич дал ряду бывших коллег-преподавателей РГУ, автор характеризует В. А. Тищенко, как человека «интеллигентного, доброжелательного, уверенного в себе и слегка ироничного»[22].
Занятия английским казались приятным отдыхом. Этот предмет преподавала близкая по возрасту И. Н. Николаева. После первых же занятий Ирина Николаевна разрешила мне использовать взамен обязательных учебных текстов детективы на английском языке из университетской библиотеки и газетные заметки на криминальные темы. Временами требовалось пересказывать содержание текстов на языке оригинала, акцентируя внимание на правовой терминологии англо-саксов.
В памяти по сей день сохранились виды дерзких «robbery» (разбой): вооруженный (armed robbery), банковский (bank robbery), на большой дороге (highway robbery) и намекающее созвучием на откровенное свинство «swindle» (мошенничество).
Пробуждал ассоциации с неведомым идейным течением британский «hooliganism» (хулиганство). В отличие от хамского рыла отечественного хулигана, внешность его английского побратима представлялась по-джентльменски облагороженной применением суффикса «ист», превращавшего асоциальную личность в некоего рафинированного «хулиганиста». Представлялось, что последний нарушал общественный порядок исключительно из-за оригинального направления мыслей и стиля поведения.
Надо сказать, прежние усилия в изучении английского дали мне фору перед однокурсниками, которые в течение 4-х лет тратили бо́льшую часть библиотечного времени на переводы «тысяч» из газетных текстов на иностранном языке.
Контрастом перечисленным «светлым личностям» были преподаватели «Теории государства и права» К. и» Организации суда и прокуратуры» Н. Оба читали скрипучими голосами лекции по конспектам, повторявшим содержание глав и параграфов соответствующих учебников. Оба требовали дословно конспектировать пересказ и ревниво следили за выполнением этого требования. Оба отличались неумением видеть смешное, в том числе в собственном поведении. К., например, требовал тщательного изучения единственного собственного труда – библиографического справочника с перечнем литературы по теории государства и права.
Нашему курсу запомнилась «шутка» Н. Суть ее заключалась в том, что лектор монотонно надиктовал содержание некоего определения объемом в две тетрадных страницы, затем спросил, все ли успели записать сказанное, а в завершение объявил, что вел речь об ошибочном мнении буржуазных ученых, которое опровергается отечественной наукой. Далее, не обращая внимания на гул недовольства, перешел к диктовке «правильного» текста. Кстати, у Н. я получил единственную в первую зимнюю сессию «четверку». Зеленую тоску нагнал Н. на предмет преподавания. Остальные экзамены прошли на «отлично».
Латинисты
Особняком в ряду наших наставников стояли «латинисты». Их было двое, по числу учебных групп курса.
«Латынщик» моей группы «А» – Константин Федорович Блохин – рослый, лет 30-ти, атлетического телосложения, работал в университете по совместительству. Основным местом преподавательской деятельности К. Ф. Блохина был романо-германский факультет педагогического института. Там он обучал будущих педагогов немецкому языку.
Нашу группу «Костя», как называли его между собой однокурсники, успел за отведенный один семестр ознакомить с базовыми правилами чтения, произношения и переводов несложных текстов со словарем. Следуя наставлениям «Кости», мы «зарубили на носу» предусмотренный программой набор латинских юридических терминов, дополненный крылатыми выражениями и пословицами. «Костя» был раскован на лекциях, прост в общении на переменах и за стенами Alma mater. После сдачи зачетов я встречался с ним при случайных обстоятельствах за пределами университета.
Латинистом группы «Б» был друг «Кости» Сергей Федорович Ширяев, человек разнонаправленных интересов и увлечений. Кроме нашего факультета, Сергей Федорович преподавал латынь филологам. О некоторых особенностях его характера и манере преподавания рассказывали однокурсники из параллельной группы. К тому же я мог систематически наблюдать манеру общения латиниста с окружающими на переменах.
Оба наставника демонстрировали познания в разнонаправленных областях, в том числе, не связанных с основной профессией. И того и другого природа наделила чувством юмора, способностью к розыгрышам и импровизации. Друзья увлекались спортом и были сильны физически. «Костя» серьезно занимался штангой. Иногда я виделся с ним в зале бокса на третьем этаже спортивной школы № 1, куда он приходил взвешиваться после тренировок (у штангистов весы сломались).



