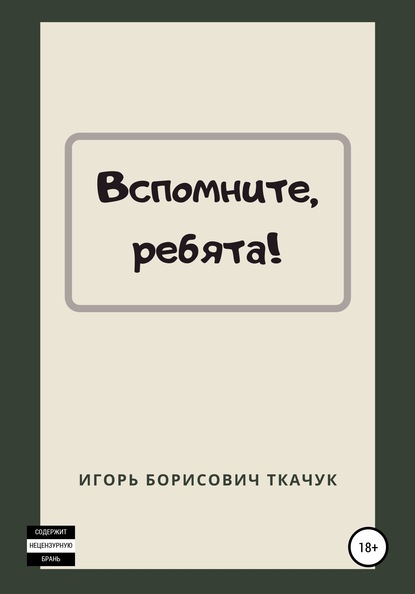 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Газетную вырезку мама переслала мне в Белогородку. Смачное описание поведения Бориса в клубе перемежалось восклицаниями: «Посмотрите, как вызывающе он одет, какие развязные позы принимает у биллиардного стола, как бесцеремонно тушит сигарету в горшке с нежными цветами!» и т. п.
Странно, но по прочтении опуса возникало впечатление, что автор втайне завидует умению Альберта красиво совмещать изысканную небрежность с хамством. В наше время фельетон, возможно, был бы отнесен к разновидности рекламы, повысившей, популярность Бориса у поклонников, и сделавшего известным среди людей, не подозревавших о его существовании.
Следует отметить, газетная публикация с предосудительными сведениями о представителях рода Альбертов была не первой.
В конце 40-х годов отец Бориса, в то время директор Херсонского консервного завода, был осужден на 25 лет лишения свободы за «хищения социалистической собственности». Прискорбному событию, по словам мамы, посвящалась статья центральной газеты «Правда». Механизм хищений был прост. Поступавшие на завод ранние помидоры уходили на рынок, где продавались по высоким ценам начала сезона. Завод же получал эти плоды по одинаково низкой государственной закупочной цене в течение всего периода их переработки. Разница между закупочной и рыночной ценой, помноженная на приличные объемы похищенного, позволяла извлекать огромные деньги. Образовавшаяся вначале поставок недостача веса «раскладывалась» на весь рабочий сезон и маскировалась официально допустимыми нормами производственных потерь. О широкой жизни расхитителей, по сообщению газеты, свидетельствовал свадебный подарок Альберта-старшего дочери секретаря райкома партии. Речь шла о новенькой автомашине «Победа».
Из мест отдаленных отец Бориса освободился досрочно. По утверждениям сына, он был признан жертвой политических репрессий. В доказательство этого Борис показывал (мне тоже) висевшую в одной из комнат их квартиры групповую фотографию инженерно-технических работников Крымского консервного комбината. В центре снимка располагался главный обличитель сталинских репрессий Н. С. Хрущев (он приезжал в Крымск дважды). Альберт старший, как главный инженер комбината, сидел справа, плечом к плечу с «персеком».
Благодаря прежним накоплениям семьи и родственникам в Одессе Борис имел невиданный по тем временам в Крымске гардероб и стойкую группу поклонников обоего пола. Искать работу не спешил. Вечера проводил на танцах или в компании близкого по духу окружения. Зимой 1960 года ездил «на танцевальный сезон» в Ленинград, где квартировал в студенческих общежитиях. Рассказывал мне о своих успехах на балах в каком-то дворце. Короче, полностью соответствовал тогдашнему статусу «стиляги».
Правда, его репутацию в глазах ровесников несколько портило несовместимое с уличным кодексом обстоятельство. Несмотря на мужественную красоту и отличное телосложение, помноженные на наглость и умение затевать скандалы, он без стеснения уклонялся от личного участия в спровоцированных им групповых драках, используя общепризнанные спринтерские навыки. Однажды за ним безрезультатно гнался Женя Голов.
Надо сказать, первоначальный интерес Вити Левина к Борису Альберту вскоре перерос в желание установить приятельские отношения. Однако попытки двоюродного брата сблизиться Борис почему-то отверг. Не помогала даже систематически «проставляемая» выпивка. Причина такого неприятия для меня осталась неясной.
Дабы не отвлекаться в дальнейшем на описание деталей бурной судьбы Бориса следует отметить ее основные точки. Армия с досрочным увольнением по состоянию здоровья, лишение свободы за кражу автомобильных колес у главного инженера комбината Чигиринского, женитьба на одной из давних и терпеливых поклонниц, красивой и работящей Алле с дипломом инженера, вещи которой он даже в начале знакомства не раз проигрывал в карты (любовь зла), переезд в Одессу. В середине 80-х он – директор одного из одесских ресторанов. Приезжал в Крымск повидаться с друзьями детства. Демонстрируя состоятельность, показывал отдыхавшему у матери Сереже Синченко толстую пачку сотенных купюр. Приглашал его в ресторан, однако предложение Бориса Сергея не заинтересовало. При упоминании о деньгах Альберта Сережа в разговоре со мной ограничился замечанием, что такой толстой пачки купюр еще ни у кого не видел. На этом интерес работника НИИ к дензнакам Бориса иссяк. Из сообщений Аллы подругам известно, что Борис умер в конце 80-х от болезни печени. Сама же Алла, по слухам, уехала на постоянное жительство в Германию.
Забавно вспомнить. Одно время подражать Альберту в одежде и стиле поведения решил воспитанник авиамодельного кружка Г. Ф. Григориади, мой будущий товарищ по производственному обучению и работе в мехцехе, Саша Костенко. За модной одеждой он поехал в Москву. Купил там туфли с толстыми подошвами на пару размеров больше необходимого (свободное пространство набивалось газетой). Заузил до предела брюки. Приобрел рубашку в яркую клетку.
Его рассказ о демонстрации покупок москвичам и гостям столицы помню дословно:
«Иду по Горького (Тверской). Дуды (штанины) – во-о-о!!! Коры (туфли) – во-о-о!!! У народа шары́ на лоб!!!».
Не исключено, что необычность видения дополнялась высоким ростом и длинными худыми ногами товарища. Из-за этой особенности его телосложения мой бывший мастер Б. А. Ревницкий жаловался на навязчивое подсознательное желание именовать Сашу Журавлевым.
В Крымске на комичность нового облика Сане мягко намекнул Г. Ф. Григориади. Кроме того, руководитель авиамодельного кружка, кумир своих воспитанников, без всяких недомолвок посоветовал ему держаться подальше от Альберта и его друзей, которым предрек короткое и неинтересное будущее. Впоследствии Саша, со свойственной ему способностью к самоиронии, не раз с усмешкой вспоминал свои юношеские искания. При мне он стал отличным токарем, а позже и кавалером ордена Трудового Красного Знамени.
В 1960 году парторг мехцеха Е. Т. Ильин предложил нам с Сашей вступить в КПСС. Саша был «за» и вскоре стал кандидатом. Я же, несмотря на полное согласие с идеями партии, ответил, что еще не дозрел до столь важного решения. Причиной отказа было стойкое нежелание участвовать в различного рода пустопорожних собраниях, особенно партийных.
В 1988 году Сашу Костенко избрали делегатом 19-й Всесоюзной конференции КПСС. По ходу участия в этом партийном форуме он посетил известного нам обоим бывшего бригадира томатного цеха Володю Щербака, ставшего Министром пищевой промышленности РСФСР, и выступив в роли гоголевского кузнеца Вакулы, по наущению родной дирекции испросил для крымского комбината некие преференции. Что именно, я не помню.
Щербак, по словам Сани, отнесся к просьбе с пониманием и, более того, вскоре ее выполнил.
В 1989 году Саша был вынужден оставить работу у станка по состоянию здоровья и перешел на должность машиниста холодильной установки.
Вернемся к Вите ЛевинуОтвергнутый Альбертом и его окружением, Виктор влился в секцию бокса и вошел в круг моих друзей. Показать мне, как надо боксировать по-настоящему, у него, несмотря на превосходство в весе и росте, не получилось. Во время первого спарринга с братом тренер А. Г. Тричев попросил меня боксировать помягче. Этой рекомендации я придерживался и в дальнейшем. Однако в целом Виктор занимался успешно. Выиграл бой в матчевой встрече с боксерами из Новороссийска. Его нервы постепенно пришли в норму, и он перестал будить нас футбольными монологами.
В начале лета 1961 года Виктор по неведомому нам с мамой плану уехал в Одессу к тете Лизе, откуда намеревался направиться Ленинград для поступления в военное училище железнодорожных войск. В командовании этого учебного заведения у Виктора Романовича был один из его многочисленных знакомых.
В дальнейшем Виктор не раз удивлял родных и близких поведением, круто ломающим привычный порядок жизни. В военное училище он поступать передумал. После службы в армии женился на девушке-маляре. Вместе с ней работал в одной из строительных организаций Днепропетровска. Там, выйдя однажды вечером во двор выбросить мусор, пропал без вести. Вся его одежда в момент исчезновения состояла из хлопчатобумажного спортивного костюма.
Через шесть месяцев жена получила открытку из Красноярска, где Виктор в свое время проходил срочную службу. Брат сообщал, что работает «в заводской столовой на холодных закусках». Просил выслать деньги на обратную дорогу. Однако, получив перевод, потратил его на утоление «духовной жажды» крепкими напитками. После этого в экспедицию за Виктором выехала его жена.
Вернувшись в Днепропетровск, брат от дружбы со «змием» не отказался. Прервал их отношения обширный инфаркт.
В 80-х Виктор дважды приезжал Москву, очаровав наших детей свободной речью и приятным общением. Рассказывал о строгом воспитании своих детей – двух девочек. С ностальгией вспоминал время, проведенное в Крымске.
В 90-х, вернувшись в Ровно, занялся предпринимательством, однако был дважды обманут компаньонами. Его неудачи обернулись для тети Леси потерей бывшей «генеральской» квартиры и переездом в более скромное жилье. Виктор Романович к этому времени умер. Младший брат Вити Игорь разительно отличался от него послушным характером, вежливостью и безразличным отношением к родным и близким. Окончил медицинский ВУЗ в Киеве. При поддержке начальника «лечсанупра» украинского ЦК Прилукова, мужа институтской однокурсницы тети Леси, стал главным терапевтом цековской, а затем президентской больницы. С родными по линии Ткачуков отношений никогда не поддерживал. Во время случайных встреч демонстрировал приторные родственные чувства, однако о своих настойчивых предложениях встретиться по конкретным поводам забывал навсегда сразу после расставания.
Мне кажется, что Виктор, несмотря на непредсказуемый характер, был гораздо ближе тете Лесе, нежели Игорь. Самым счастливым для Виктора оказался последний отрезок его жизни, всецело посвященный тренерской работе с юными футболистами ДЮСШ в Ровно. По личным впечатлениям Васи (моего дяди), для этих ребятишек брат был предметом восхищения, поклонения.
Он умер 9 мая 2009 года от болезни почек, находясь в одной больнице с тетей Лесей. Я узнал об этом от тети, когда позвонил ей в палату, чтобы поздравить с Днем Победы. Накануне смерти в телефонном разговоре Витя планировал нашу встречу в Москве. Было в дате его кончины что-то символичное. Родился в семье фронтовиков в г. Джалал-Аба́де, умер в День Победы.
Вступительные экзамены в ВУЗ. Попытка номер два
Летом 1961 года я вновь приехал в Ростов-на-Дону впритык к началу вступительных экзаменов. С учетом опыта предшествовавшего года заблаговременный приезд для посещения различного рода консультаций показался мне малополезным. Кроме того, не было никакого желания вести бесприютную жизнь абитуриента в душном городе с вонючей водой. Готовность к встрече с экзаменаторами базировалась на четком представлении об уровне требований, намерении ответить на любые вопросы и пресловутой спортивной злости.
Конечно, это было проявлением завышенной самооценки. Однако она помогла поддержать боевой настрой и избавила от отнимающей силы нервозности. По вечерам я ходил в летний кинотеатр повторного фильма на серию комедий Чарли Чаплина, которых хватило на весь экзаменационный период. От непрерывного смеха по окончании киносеансов болел брюшной пресс. Спал крепко, без сновидений.
По результатам экзаменов набрал 19 баллов из 20-ти возможных, получив три пятерки и одну четверку (по сочинению). Проходными были 16 баллов. Из особенностей общения с экзаменаторами запомнились диалоги с преподавателем кафедры английского языка Эриксон (имени и отчества, к сожалению, не помню) и представительницей исторической науки (фамилии не знаю).
Эриксон, увидев меня, удивленно спросила: «Разве вы не поступили в прошлом году? Я же поставила вам «отлично». Выслушав объяснения, продолжила: «Языка за год не забыли?».
Затем предложила прочесть и перевести текст без положенного мне словаря. К счастью, незнакомым оказалось всего лишь одно ныне широко известное россиянам слово Barrel (баррель, бочка), которое я распознал по контексту. Периодически встречаясь с этой женщиной в коридорах факультета в годы учебы, я всякий раз видел приветливую улыбку доброй знакомой.
Преподавателя истории я буквально засыпал датами. Одну из них она назвала ошибочной. Возможно, мое поведение было тактически неверным, но я заспорил и продолжал «давить» на нее даже после того, как она сообщила, что ставит мне «отлично». Уж очень памятным было мне прошлогоднее фиаско с датами, из-за которых я получил «трояк».
1 сентября 1961 года я был зачислен на юридический факультет Ростовского-на-Дону государственного университета.
Очень жаль, что рядом со мной не было сурового романтика (не приукрашиваю) Виктора Недобенко. Он поступил в ВУЗ через два года, избрав на этот раз факультет психологии Ленинградского университета. Вот уж кто продирался «через тернии к звездам». Не набрав нужных баллов для зачисления на дневное отделение, поступил на вечернее. Для получения заветной прописки пошел в «лимитчики»: работал бетонщиком, заливал и укладывал бетонную смесь в строительные конструкции, жил в четырехместной комнате общежития. Успешно завершил учебу. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию, купил кооперативную однокомнатную «хрущевку». В том же году я побывал у Виктора в гостях. Познакомился с его женой и сыном – Костиком, студентом медучилища. Мне показалось, что за достижение намеченных целей Виктор излишне щедро расплатился своим физическим здоровьем и душевным комфортом. Может быть, мы встретились не в самое лучшее для него время. Друг явно переживал фазу «выжатого лимона». С тех пор мы лишь изредка перезванивались. После призыва его сына на срочную военную службу я, по просьбе Виктора, помог новоиспеченному медику занять должность фельдшера санчасти.
Позже, судя по данным Интернета, природные силы и воля моего друга взяли верх. В настоящее время Виктор Константинович доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, с 2012 г. действительный член Европейской академии естественных наук.
Мой отъезд в Ростов, расставание с механическим цехом и кругом друзей нагоняли грусть. До сих пор мне кажется, что 1958–1961 были лучшими годами жизни. В течение многих последующих лет (до полного разгрома комбината «реформаторами») я навещал цех при первой возможности. Заряжался энергией от общения с людьми, достойно исполнявшими понятное и нужное дело. Добрые, в том числе и дружеские, отношения сохранились у меня со многими бывшими коллегами-металлистами и их детьми по настоящее время.
В завершение производственной эпопеи хочу добавить два соображения.
Первое навеяно случайно увиденным текстом «высоколобого» автора о том, что нынешнее небывалое социальное расслоение наших граждан является логическим продолжением несправедливого распределения благ в СССР.
Опровергать этот бред на теоретической «поляне» не буду. Приведу факты из времен работы на Крымском консервном комбинате.
В 1961 году оклад директора комбината Н. И. Игнатушина, нашего соседа по лестничной площадке, составлял 140 рублей. Я знаю об этом от его жены Антонины Иосифовны, сотрудницы комбинатской лаборатории. Оклад мамы был 120 рублей. Наши ветераны станочники зарабатывали в среднем не менее 120 рублей в месяц. Лекальщик Жора Мавромати – до 200 руб. Семья директора в составе 6 человек (трое взрослых и трое детей) жила в трехкомнатной квартире с отдельным туалетом. Ванны не было. Точно в таких же квартирах в разных подъездах жили несколько семей из рабочих династий и межрайонный прокурор П. Н. Сазонов (тоже с семьей из 6 человек).
Заработки квалифицированных рабочих на предприятиях тяжелого машиностроения, доходы шахтеров и металлургов были намного выше наших. Летом 1983 года, показывая мне цеха Иркутского завода тяжелого машиностроения, Марик Глухов спросил у токаря-карусельщика о его заработке за последний месяц. Оказалось – 850 рублей. Оклад союзного министра в то время составлял 500, а секретаря райкома КПСС – 150 рублей.
Второе соображение о том, что информационные помои выплескивались на нас так называемыми «партнерами» даже в периоды горячего братания Н. С. Хрущева с милой его сердцу «американщиной».
В 1961 году комбинат посетила кубинская делегация. Ознакомившись с продукцией в дегустационном зале лаборатории, гости убедительно просили маму провести их в технологический цех, изготавливавший тушёнку. Такие посещения исключались по соображениям санитарии. Работники попадали в цех после переодевания и прохождения санитарных процедур, в том числе осмотра рук и состояния ногтей. При необходимости работница контрольного поста делала гигиенический «маникюр».
Тем не менее, гости был настойчивы. Наконец, один из них, отведя маму в сторону, пояснил: у них распространен слух о том, что поставляемая на Кубу тушёнка Крымского комбината изготавливается из человечины, а точнее, из тел умерших стариков.
Пришлось опровергать бред показом содержимого заводского холодильника, а затем и всего технологического процесса.
Часть третья
Предстоит учиться мне в университете
И вновь Ростов
Я приехал в Ростов в конце августа 1961 года. До начала нового этапа жизни оставались считанные дни. Наш курс, единственный в Северо-Кавказском регионе, состоял из 40 человек. К этому времени ряд юридических институтов и университетских факультетов прекратил существование по воле Н. С. Хрущева. Пресса голосисто цитировала обещание «ПерСека» показать советскому народу последнего преступника и посему объявившего юристов представителями «отмирающей профессии». Часть функций «мертвеющего» правосудия предполагалось передать товарищеским судам, а центр тяжести охраны правопорядка сместить в сторону народных дружин. О существовании иных, кроме уголовного, отраслей права Н. С. Хрущев, очевидно, не подозревал.
В результате выполнения партийных установок в 1961/62 учебном году в СССР осталось 4 юридических института и 26 профильных факультетов университетов. (В постсоветской России маятник абсурда в деле подготовки юристов в качнулся в другую сторону. В 2015 году, по материалам Рособрнадзора, подготовку юридических кадров в России с населением вдвое меньшим, чем в СССР, вели 1211 высших образовательных учреждений).
Поскольку мест в студенческом общежитии не хватало, я, как и большинство однокурсников, снял угол, по-нынешнему – койко-место. Стопка листков с рукописными предложениями подобного жилья для студентов лежала на почтовом стенде в главном корпусе университета.
Пристанищем стала квартира № 3 в доме № 217 на Пушкинской улице, освоенная еще во время вступительных экзаменов. Правда, названный дом, как цельная единица, присутствовал только в воображении городских властей. На самом деле этой цифрой обозначалась группа трех одноэтажных хибар, образовавших закрытый дворик с абрикосовым деревом посередине и дощатым туалетом типа sortir в дальнем углу. Водопроводная колонка торчала на улице, рядом с воротами.
Квартира (хибара) принадлежала Эмилии Михайловне Росляковой 70-ти с лишним лет, вдове военкома Морозовского района Ростовской области. Жилье состояло из двух узких, вытянутых «трамваем» комнат и пристроенной к ним кухни. Обогревалась квартира кухонной печью – единственным источником тепла. Внутренних дверей между тремя отсеками не было. В дальней, предоставленной квартиранту комнате «трамвая», отсутствовали не только дверь, но и окна. Это был тупик с двумя кроватями. Судя по глухим стенам, в прошлом он представлял собой коридор другого помещения. Во время экзаменационных сессий хозяйка подселяла на вторую кровать заочников университета. Однажды в течение нескольких месяцев это ложе занимал молодой кореец – солист ростовской филармонии. С тех пор мне известна методика утренней «разминки» голоса. Жилье обходилось в 15 ежемесячных рублей. Для справки – стипендия на первом курсе составляла 22 руб.80 коп.
В проходной комнате обитали энергичная бабушка-хозяйка и любимый внук Юра, осваивавший в профтехучилище специальность электромонтера связи. Мать Юры вместе с сожителем, давно перешедшим из разряда любителей спиртного в категорию профессионалов, кочевала по отдаленным «стройкам коммунизма». В тот год родительница Юры трудилась кастеляншей общежития на строительстве Нурекской ГЭС. Сожитель вносил вклад в возведение плотины в качестве сварщика.
Отсутствие двери позволяло слышать по утрам процедуру побудки будущего связиста. Сначала у изголовья внука раздавалось сюсюканье бабушки-будильницы:
«Лю-лик, вст-а-вай!!!».
За этим следовал неизменный отзыв:
«Ух ты, моя бабу́-ша! Иди в ж…!».
Отношения «бабуши» с неформальным зятем, по фамилии Транквилицкий, происходившим из семьи представителей районной элиты станицы Морозовской, были натянутыми. Однажды, понося сожителя дочери набором обидных для пьющих людей слов и выражений, Эмилия Михайловна продемонстрировала полученное накануне письмо. В тексте послания Геннадия Транквилицкого, которого «Бабуша» именовала ТранСквилицким, содержалось выражение «ваш престиж». Последнее слово «Бабу́ша» почему-то посчитала гнусным ругательством. Вывести хозяйку из заблуждения не удалось. В ответ на приводимые пояснения Эмиля Михайловна раздраженно восклицала: «Неужели не понимаешь, о чем речь?».
Впрочем, несмотря на неосведомленность о смысле слова «престиж» Эмилия Михайловна отличалась житейской сметкой, живо интересовалась произведениями классиков марксизма. Обсуждала содержание «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Энгельса, которую я штудировал в углу. И даже вступала в заочный спор с Фридрихом, категорически отрицая утверждения классика о будущем отмирании института семьи.
Дочь «Бабу́ши», Юля, спиртного не употребляла. Однако на особенности характера женщины повлияло ранение головы. Пуля бывшего мужа (ревнивого начальника Морозовской милиции) поразила Юлию Михайловну в лоб и, не сильно повредив мозг, вышла за левым ухом. Об этом я знал со слов Эмилии Михайловны (в наличии соответствующих шрамов убедился позже). Муж – милиционер, по фамилии Васин, получил за содеянное 10 лет, но к 1961 году уже вышел на свободу и работал заготовителем в кооперативе. Встретиться воочию с нестандартной парой «дочь-сожитель» мне довелось через два года.
Иногда Эмилию Михайловну навещали проживавшие в Ростове родные братья Павлик и Лёсик (Леонид), несходные между собой внешностью и характерами.
Павлик, отставной майор внутренней службы, внешностью и поведением – краснощекий синьор-помидор, страдал гипертонией и другими болячками. Приходил в гости с такой же болезненной женой, любительницей шляпок и кружев. К «Бабуше» супруги относились снисходительно, но на гостинцы к чаю скупились. «Бабуша» особых симпатий к ним не испытывала. Причины недомоганий супругов видела в том, что Павлик с женой» понаеда́ли мяса́». Вершиной демонстративного высокомерия жены брата Эмилия Михайловна считала головные уборы последней. В разговорах о кичливости невестки применяла выражение «понадевали шляпо́».
Супруги были бездетными. Однажды удочерили малышку женщины, лишенной родительских прав. По словам «Бабуши» играли с ребенком, как с куклой, наряжая в невообразимые банты и платьица. Потом устали заботиться. Подросшая девочка сбежала из дома и пустилась во все тяжкие. Обратно не возвратилась. Изредка узнавали об арестах бывшего приемыша.
Брат Лёсик, участник Войны, Герой Советского Союза, худой мужчина выше среднего роста с изможденным ликом, терпел многочисленные удары судьбы из-за дружбы с «зеленым змием». Одной из последних потерь стала пропажа с лацкана пиджака медали «Золотая Звезда». Этой наградой, воспользовавшись алкогольным забытьем Героя на парковой скамье, завладел неизвестный ростовский ханыга. Лёсик, несмотря на пенсионный возраст, работал начальником охраны какого-то заводика.
В противовес Павлику «Бабуша» искренне жалела страдающего хроническим безденежьем непутевого Лёсика, угощала брата ливерной колбасой и кипятком с трехдневной заваркой чая, не забывая вести нравоучительные беседы. О семье Лесика Эмилия Михайловна не рассказывала.
Материальной поддержки извне «Бабу́ша» с внуком не имели. Финансовые активы тандема складывались из пенсии Эмилии Михайловны, стипендии Юры и платы постояльцев. До достижения совершеннолетия Юры бюджет семьи пополнялся алиментами отца. Затем денежная помощь прекратились навсегда. Мама Юры вела аскетический образ жизни, однако все заработанные средства тратила на ублажение сожителя. Тем не менее, благодаря хозяйственным талантам, «Бабуше» удавалось не только сводить концы с концами, но и покупать Юре нечастые обновки. Запомнилась светлая радость парня по поводу появления пошитых на заказ брюк (как у всех). Однако следующее утро после демонстрации обновки стало для счастливого внука поистине черным. Штаны, повешенные перед сном на спинку стула у изголовья кровати, украл вор-форточник. Очевидно, ворюга воспользовался для мерзкого дела «удочкой» – палкой с проволочным крючком. Никто из спавших в нашей халупе подозрительных звуков не слышал. Горе Юры, убедившегося в бесповоротной утрате долгожданного предмета «верхней одежды для нижней части тела», не поддавалось описанию.



