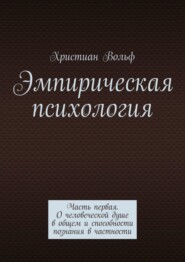
Полная версия:
Эмпирическая психология. Часть первая. О человеческой душе в общем и способности познания в частности
Лейбниц использовал его в этом смысле для обозначения своей мысли, причем настолько регулярно, что вскоре ее стали называть «системой предварительно стабилизированной гармонии», а сам он добавил к своему имени в нескольких своих работах примечание «Auteur du Systeme etc.». Вольф также использовал слово «система» в этом смысле, когда говорил о гипотезе Лейбница или об одном из трех противоречивых взглядов в целом, тогда как в других случаях он использовал его в совершенно ином смысле, а именно для обозначения органически организованной системы учения.
Недоразумение, возникшее из-за такого двойного употребления одного слова, можно было бы, казалось, легко устранить. Но при тогдашнем, по крайней мере отчасти нечестном, стиле борьбы его оппонентов оно, наоборот, было использовано, тем более что из него, как считалось, можно было вывести все те следствия, которые должны были сделать вольфовскую метафизику столь опасной.
Даже последователи Вольфа не все оставались свободными от переоценки масштабов этой идеи и ее значения для учения мастера, вероятно, потому, что она оставалась в центре спора. Однако некоторые из них все же приблизились к гораздо более полному пониманию творчества Лейбница, чем Вольф и его самый верный ученик Тюммиг. Ведь помимо использования в объяснении союза души и тела, которое принял только Вольф, та же идея божественного порядка царства уровней монад является если не основой, то, по крайней мере, краеугольным камнем метафизических спекуляций Лейбница. Среди последователей и учеников Вольфа, которые, однако, прибегали к помощи самого Лейбница, Георг Бернхард Бильфингер стоит в первом ряду, как подробно показал д-р Рихард Валь в развернутом эссе в «Fichte’s Zeitschrift».77
Вольф, при всем своем безоговорочном признании несогласия с Лейбницем и зависимости от него во многих метафизических идеях, всегда подчеркивал в одном и том же месте, что последний лишь «иногда говорил об этом в общем виде», но нигде не «привел метафизические истины в надлежащий порядок». Бильфингер же, вероятно, первым заговорил о лейбницевской метафизике или, в более широком смысле, о лейбницевской философии, которую он всегда называет независимой наряду с вольфианской. Именно так следует понимать то, что Вольф позже обвинил его в том, что он «внес путаницу».78 Кстати, я не нашел выражения Philosophia Leibnitio-Wolfiana нигде в использованных мною работах Бильфингера, и я скорее полагаю, что оно появилось в полемике оппонентов, а распространилось благодаря биографии Людовичи. Во всяком случае, фактом является то, что главные идеи и основные доктрины системы Вольфа были заявлены Лейбницу под этим именем без дальнейших подробных ссылок на них, в то время как самому Вольфу досталась лишь заслуга изложения, организации и, отчасти, обоснования. Это странное слияние двух систем, вновь оказавшееся выгодным как для одного, так и для другого, произошло в десятилетие 1720—1730 годов, столь сильно взбудораженное научными спорами, и более подробное изучение его было бы интересной и плодотворной задачей. Это было возможно только в эпоху, которая в принципе не знала философских взглядов Лейбница, как та, что существовала в то время. Это было, и сам Вольф не раз подчеркивал это, препятствием для распространения более точных знаний о нем и не в последнюю очередь виновато в том, что полвека спустя Лессинг все еще мог справедливо сетовать: «La philosophie de Leibnitz est fort peu connue».
Более примечательно то, что новейшая история философии, которая представила мир мысли Лейбница во всей его полноте и все еще находится в процессе завершения, приняла этот взгляд на отношения между двумя философами, не исследовав его более тщательно, и объясняет различия, которые часто возникают не из принципиально разных взглядов двух мыслителей на цель и задачу философии в целом и метафизики в частности, а из неспособности Вольфа выполнить свою реальную задачу, а именно изложение и организацию мыслей Лейбница.
Я имею в виду прежде всего идею, на которой основывается и достигает кульминации вся метафизическая спекуляция Лейбница: идею монады. Вольф был совершенно прав, когда однажды сказал, что система Лейбница началась там, где закончилась его собственная, и что он не считает нужным анализировать ее для своих целей. Метафизика Лейбница была призвана завершить и увенчать все здание наук с помощью гениально продуманного мировоззрения, объединив их индивидуально полученные результаты под одной великой точкой зрения. Так возникли глубокие идеи о непрерывном одушевлении, о царстве уровней образных сил, которые, восходя от самого темного к самому ясному представлению, составляют сущность вселенной в их непрерывной гармонии, а каждый образует мир в миниатюре.
Для Вольфа метафизика является не целью и дополнением, а основой всех наук. Она содержит основные понятия и принципы, с которыми должны оперировать остальные науки и на которых они должны продолжать строиться. Тщательное объяснение и обработка этих понятий – ее задача. Здесь он соотносится с Лейбницем – если можно привести аналогию из более позднего развития – как Гербарт с Фихте. «Простые вещи» Вольфа, которые можно рассматривать лишь как необходимый коррелят сложных, и фундаментальную силу которых он представляет, не определяя ее более точно, как постулат нашей мысли, необходимый для объяснения движения, все же чем-то отличаются от монад Лейбница, или в высшем случае не представляют даже самой существенной их части; но происхождение, как и развитие мысли, в этих двух случаях, конечно, совершенно различно. Вольф сам ясно заявил об этом в своих примечаниях к «Немецкой метафизике», он повторил это в своем последнем сочинении, в предисловии к пятому тому «Латинской этики», и в том, что ему не поверили, виноват лишь старый предрассудок его тщеславия и недоверчивости во всем, что касается его положения по отношению к его великому предшественнику. В этих основах метафизики Вольф по-прежнему полностью стоит на почве школьной философии, с одной стороны, и картезианского дуализма – с другой. И даже понятие силы, которое он перенял у Лейбница – тоже гораздо более древнего в этом смысле – пришлось переделать в смысле последних взглядов, чтобы иметь возможность его использовать. Идеи Лейбница здесь не были уплощены, скорее, как и идеи Спинозы, они еще не были реализованы в то время. Вольф совершенно прав, когда открыто признает, что так и не понял действительного мнения Лейбница по этому вопросу, но он не менее обоснованно утверждает, даже в старости, что оно так и не было полностью понято. Поэтому, если мы хотим правильно оценить его историческую позицию, мы должны подниматься от Аристотеля, схоластики и Декарта к Вольфу, а не спускаться от правильно понятого Лейбница к нему. Во время своего обучения он находился под влиянием вышеупомянутых систем и приобрел свою точку зрения в пользу системы, при разработке которой он, по общему признанию, наиболее широко использовал идеи Лейбница в той мере, в какой они стали ему известны и понятны, и тем самым также распространил их. Поэтому компиляция последних была бы весьма обширной, но, с другой стороны, и излишней, поскольку именно на них делался основной акцент во всех более подробных изложениях доктрины Вольфа до сих пор и поэтому они также рассматривались более подробно.79 Я хотел бы привести только один пример, прежде всего потому, что он, вероятно, является наиболее важным из идей, использованных в общей разработке, но также и потому, что он показывает нам, что Вольф не всегда останавливается на версии Лейбница, но также идет дальше независимо от нее.
Лейбниц уже указывал Вольфу в письме на фундаментальную важность теоремы о достаточном основании, которую тот впервые признал и представил в полном объеме.80
Теодицея, так называемая «Монадология», но прежде всего споры, которые он вел с Кларком, привели его к более детальному обсуждению этого «метафизического принципа» и сделали его предметом научной полемики. Вольф впервые выступил в его защиту в «ratio praelectionum», затем во втором разделе «Немецкой метафизики», и попытался обосновать его еще до того, как поставил его во главу угла этой дисциплины в «Латинской онтологии» и, таким образом, в центр своей метафизики. Его обоснование пропозиции, от которой Лейбниц отказался как от невозможной и ненужной, на самом деле является незначительной и неудачной попыткой, в которой логическая ошибка становится очевидной даже при поверхностном рассмотрении. Более важным является различие между ratio и causa, причиной и следствием, основанием знания и фактическим основанием, которое он впервые проводит более резко. Даже если в других местах он снова несколько размывает это различие и даже если он не демонстрирует более глубокого понимания последствий этой идеи, о которых он, кажется, слабо подозревал, этот шаг все же является его заслугой, которую Шопенгауэр также подчеркивал в своей диссертации.81
Действительно осуществленное разделение этих двух типов разума неизбежно должно привести к разрушению всеобщей постижимости мира, которую Лейбниц еще предполагал в принципе разума, и тем самым уже выходит за пределы догматизма. Вольф не осуществил этот шаг, но он намекнул на него и подготовил его; и в этом смысле можно сказать вместе с доктором Эдмундом Кёнигом,82 что рационализм приходит к своему завершению в нем самом.
Однако чисто внешне дискуссии и споры о законе причинности, которые велись в Германии в течение нескольких последующих десятилетий и которые, наряду с влиянием английской философии, оказали воздействие на развитие Канта, опять-таки связаны с ним гораздо больше, чем с Лейбницем.
Философия Вольфа и ее задачи
Вольфовская система – это не то же самое, что лейбницевская. В ней использованы некоторые идеи Лейбница, но не все и не только они. Прежде всего, в ней отсутствует основа последней – идея монады в ее полном воплощении. Как мы слышали от самого Вольфа, он оставил ее без внимания, потому что она не была нужна ему для его проекта. Задача философии Вольфа, таким образом, лучше всего объясняет ее особый характер и, следовательно, это различие.
Сегодня мы говорим о системе почти каждого философа, но не следует забывать, что этими системами мы редко обязаны самим мыслителям, а скорее историкам философии, которые объединили их разрозненные мысли в общую картину и объяснили их исходя из их личности, а также эпохи. Это не всегда принималось во внимание в достаточной степени, и следствием этого стало то, что усилия, которые привели к фактическому созданию таких систем, не были продолжены, а их значение не было достаточно оценено. Ранее уже упоминалось об изменении значения этого слова, которое стало очевидным в начале прошлого века. История терминологии может прийти здесь на помощь истории философии, как уже указал Рудольф Юкен в своей «Истории философской терминологии» для некоторых других случаев. Я хотел бы охарактеризовать разницу в использовании слова «система» в разные века как характерную для взглядов Лейбница, с одной стороны, и Вольфа, с другой, на философию и ее задачи. Там оно означает объяснительную спекуляцию, здесь – связное изложение содержания нашего мышления и знания.
Невероятное расширение и обогащение знаний за последние три столетия со всех сторон прорвало барьеры, в которые теологическая школьная система Средневековья заключила все содержание мысли и сделала его пригодным для преподавания и использования. И протестанты, и католики поначалу пытались сохранить традиционные основы и сделать старые школьные системы доступными для современных идей и учений, расширяя и реформируя их. Подобно тому, как религиозная реформация XVI века восходила от Отцов Церкви и традиций только к Евангелиям и Апостолам, философская реформа того же периода первоначально хотела вернуться от схоластики только к Платону и Аристотелю. Системы Реформации, как и Контрреформации, протестантского теолога Меланхтона, испанского иезуита Суареса, по сути, являются ничем иным, как новой схоластикой. В конечном итоге ни те, ни другие не смогли ужиться с новыми идеями. Представление всего содержания мысли и создание средств для ее распространения, использования и расширения – вот две части задачи, которую ставила перед собой эпоха. Предпринятые попытки решить ее должны быть вначале кратко рассмотрены по отдельности.
Королевские дворы, фактическим созданием которых была старая система и теологический университет, а также те, которые в ранние времена стояли на переднем крае обогащения знаний и расширения мысли, не проявили особого понимания этой задачи. Когда на сравнительно позднем этапе там хотя бы предприняли компиляцию содержания знаний, она, во-первых, уже зависела от других попыток, а во-вторых, имела форму, которая делала ее непригодной для серьезного воздействия, выходящего за рамки поверхностного распространения отдельных фрагментов знаний, поскольку она открывала путь к дезорганизации и беспорядочному полиглотизму. Бейль опубликовал свою энциклопедию в алфавитном порядке; таким образом, он стал отцом той энциклопедической формации, которая, не в нашу пользу, оказала очень большое влияние на общее научное образование нашей страны в этом веке и с которой, тем не менее, следует бороться как с ее злейшим врагом.
В Англии этот подход был применен гораздо раньше и успешнее. Основатель английской философии рассматривал обе стороны проблемы; он решил первую по-своему и, по крайней мере, дал предложение по решению другой. Но бэконовская энциклопедия была слишком грандиозно задумана, слишком оригинальна и безжалостна в своем принципе деления, чтобы стать школьной системой. Она должна была либо остаться фрагментарной, либо произвести совершенно революционный эффект в сфере науки; здорового прогресса от нее ожидать было нельзя. Произошло первое. По той же причине аналогичные начинания, которые, по большей части
Аналогичные начинания, которые, в основном под влиянием Бэкона и лишь в деталях самостоятельно, бушевали в Германии в течение XVII века, и среди которых лейбницианцы, вероятно, наиболее интересны, постигла та же участь.83 Французская энциклопедия позже назвала Бэкона своим интеллектуальным отцом, и в определенном смысле это было справедливо. Как логическая совокупность, по меткому выражению Куно Фишера, английская энциклопедия стоит посередине между алфавитной и систематической, между французской и немецкой, между Dictionnaire и Wissenschaftslehre; посередине, но все же гораздо ближе к первой, чем ко второй.84
Новая система Бэкона находится в полной оппозиции к традиционным системам образования, как и новые средства ее распространения, которые он уже рекомендовал и которые впервые были опробованы в Англии. Повлияли ли его предложения на эту попытку или нет, для нас не имеет значения. Но даже эта новая форма концентрации научной работы нескольких ученых в совместных исследованиях, сложившаяся в XVII веке в противовес университету Средневековья, была лишь частично успешна как решение второй части задачи. Если академии праздновали триумфы научных открытий, то они гораздо меньше благоприятствовали расцвету философской мысли. Ее проблемы не могут быть решены совместными исследованиями, а интеллектуальные споры Лейбница с Бейлем, Локком, Кларком и Ньютоном сделали больше для того, чтобы вывести спорные вопросы на передний план и донести различные взгляды на них до широкой публики, чем для того, чтобы действительно разрешить какие-либо из них. Существенный прогресс здесь может быть достигнут только благодаря неустанному умственному труду отдельного человека в форме внутреннего опыта. Но именно академии угрожали ослабить узы, связывавшие науку как таковую с общим образованием, делая новые мысли и взгляды достоянием высокообразованного круга ученых, в то время как в школах преподавалась устаревшая схоластика или тот выхолощенный эклектизм, который в то время прикрывался именем Аристотеля как торговой маркой. Они способствовали расширению знаний в некоторых направлениях, но не их распространению.
Но ни одна дисциплина не может терпеть такое ограничение меньше, чем философия. Ведь слишком легко, если общий интерес не встречает отклика, отмахнуться от нее как от теневого вопроса и выбрать взгляды, более близкие к повседневным наблюдениям. Однако, с другой стороны, любое здоровое общее образование, которое только и может привести к высокоразвитому интеллектуальному возрасту, предполагает живой интерес к философии и более глубокое ее понимание. Подводя краткий итог, можно сказать, что академии принесли пользу естественным наукам, но навредили философии; они способствовали расширению знаний, но не их распространению. Развитие этих учреждений, ставших уже в XVIII веке опорой самого крайнего механицизма и материализма, и все развитие английской и французской философии, спустившейся через эмпиризм к материализму и скептицизму, доказывают первое; аналогичное движение в другую сторону было предотвращено, по крайней мере в Англии, только тем, что естественные науки, помимо академии, получили в свое распоряжение университет, где они могли действительно продолжать свою работу.
Главная ошибка вышеупомянутых попыток заключалась в том, что они слишком радикально подходили к сверхзадаче. Правильный путь можно было найти только через посредничество. Новая энциклопедия должна была сохранить то, что было полезным или изначально необходимым в старой системе. Для ее распространения, однако, необходимо было использовать традиционные средства: она должна была вернуться из академии в университет; уже не в теологический университет схоластики и последующего периода, который оставался под его влиянием, а в философский университет, созданный с его помощью. Этот поворот наиболее отчетливо и прочно произошел в Германии, и, пожалуй, знаменательно, что когда первая немецкая академия была заново основана, ей пришлось прибегнуть в основном к помощи иностранцев. Христиан Вольф, однако, возможно, осознавал важность своего решения, когда сопротивлялся заманчивому предложению Фридриха IT, который хотел сделать его преемником Лейбница по внешним признакам. Ведь именно он предпринял вышеупомянутый шаг и решил две части этой задачи не самым грандиозным и гениальным образом – ибо здесь он не соответствовал планам Бэкона и, вероятно, Лейбница, – а самым практичным и успешным. Именно это место занимает Вольф в общем развитии современной философии, о чем сейчас будет рассказано вкратце.
В самом начале своей академической преподавательской деятельности, готовясь к своей первой философской лекции, Вольф поставил во главу угла следующее определение: «Philosophia est scientia possibilium, qua talium». Однако, поскольку возможное – это столько же, сколько и мыслимое, это утверждение охватывает весь мир мысли для философии. Нет ничего, что не было бы способно к философскому познанию, за исключением откровений религии. 85Он нашел это определение, как он сам пишет, когда «исследовал, по случаю коперниканского построения мира, могут ли философские и особенно физические вопросы быть решены из Священного Писания или нет». 86– Это была та самая проблема, которая, как мы уже говорили, разделила его с его учителем Нойманом и окончательно сделала его неверным теологии. – Впервые он опубликовал ее в предисловии к «Elementa aerometriae». Сам Вольф однажды сказал, что Лейбниц во время своего последнего визита в Галле, вспоминая свои юношеские планы, высказал ему пожелание, чтобы нашелся ученый, который написал бы энциклопедию по примеру Альстеда, и тогда в нее можно было бы включить «Elementa Matheseos» Вольфа.87
Это давно было планом Вольфа, даже если он не хотел и не мог придерживаться указанной здесь модели. Он и осуществил его, ибо его философия – это такая энциклопедия.
Вольф начал с плана философского обоснования морали. Этой задаче было посвящено как его первое научное начинание, так и последний большой труд. Предварительные задачи, которые казались ему необходимыми, привели его к созданию и изложению своей системы. 88Задача, о месте которой в общем развитии мы уже упоминали, была, таким образом, установлена и биографически.
Однако такая система, конечно, не могла быть создана с нуля; ее основатель никогда не претендовал на полную оригинальность всего содержания мысли. «Нельзя притворяться, – защищается он, – что, когда кто-то пишет систему, он должен вносить в нее только свои собственные изобретения: ведь это было бы то же самое, что делать вид, что у наших предков вообще не было ничего хорошего. … Между тем несомненно, что, если исследовать ее так, как я привык, все выходит так, как если бы мы были первыми изобретателями, ибо мы действительно вывели ее из наших собственных знаний, как мы сделали бы, если бы нашли ее до нас».89
В этом отрывке выражена основная идея, лежащая в основе начинаний Вольфа. Задача, которую он поставил перед собой, заключалась в том, чтобы объединить в себе все знания того времени, проделав в своих мыслях работу веков и преобразовав объективно предлагаемое в субъективно признаваемое, но при этом сделать последовательную связь этой мысли ясной для себя и привить ее другим. Он не подошел к этому неподготовленным; он почти всю жизнь работал над тем, чтобы познакомиться с миром мысли самых разных великих умов. Помимо двух школьных систем, он познакомился с зачатками национальных философий во Франции, Италии и Нидерландах, с Декартом, Кампанеллой, Гуго Гроцием и другими, частично погрузился в мир мысли Лейбница, наконец – и это самое главное – позволил влиянию английского естествознания оказать на него полное воздействие. Правильно ли он распознал мысли этих людей, его мало волновало, поскольку он хотел представить не то, чему учил тот или другой, а то, чему он научился у них.90 Он также не хотел скрывать эти влияния, в чем его так часто обвиняли. Один взгляд на его труды убеждает нас в этом, даже если бы он сам не утверждал этого несколько раз.91
Его система была эклектичной; он знал это и хотел этого. «Мау снова видит из этой репетиции, что я не требую ничего сектантского, не убеждаю себя, будто я или кто-то другой один видит истину, но что я стремлюсь сохранить все хорошее, оно может быть найдено где угодно, только заботясь о том, чтобы оно было освобождено от цепких предрассудков, чтобы не возникло никакого недостатка в результате злоупотребления наукой. И это, как мне кажется, и есть тот самый философский эклектик, или житейский мудрец, который не клянется никаким стандартом, но исследует все и сохраняет то, что можно связать в разум или привести в гармоническую систему.»92
Такая система знаний сама по себе неплодотворна; она может стать системой образования только в том случае, если за вход в нее боролись; если она не только создана, но и распространена. Одним словом, создатель такой системы должен стать и ее учителем. Вольф в особой степени сочетал в себе эти два таланта, и на этом основаны его успех и значимость. На протяжении всей своей жизни Вольф был прежде всего академическим преподавателем. С ранних лет он сосредоточился на этой деятельности, и даже позже заманчивые перспективы не смогли заставить его быть ей неверным. Все его основные работы были подготовлены и созданы в течение многих лет лекций. Этим объясняются все их достоинства и все их недостатки: последовательная ясность мысли и определенность выражения, а также широта и громоздкость объяснений, которые меньше утомляют слушателя, чем читателя, или слабости и места в демонстрациях, которые при более ярком изложении ускользнули бы от слушателя легче, чем от читателя. Как изучение математики и ее общепонятное изложение в устной и письменной форме, с одной стороны, подготовило его к решению философской задачи, а с другой – подготовило академическую молодежь и более широкие круги к лучшему пониманию и более успешному решению этой задачи, так и теперь философские лекции должны были не только обеспечить и воспитать ему круг учеников и помощников, но и подготовить его к решению литературной задачи, которая оставалась для него последней, самой далеко идущей и потому самой важной. Но и здесь он всегда ощущал себя учителем. Профессор Галльского университета должен был стать Praeceptor Germaniae, возможно, даже «профессором universi generis humani.93
Разумеется, его влияние не было столь масштабным. Оно ограничилось лишь его родиной и лишь косвенно стало полезным для широкой публики благодаря его дальнейшему развитию. Поэтому его главное значение лежит в области развития национальной интеллектуальной жизни, и нельзя не рассматривать его позицию с этой точки зрения.
Разительное различие между Средними веками и современностью заключается в преобладании национального элемента над общечеловеческим. Сначала это проявилось в политической сфере, затем, однако, с большим трудом и, следовательно, с меньшим успехом в религиозной сфере; наконец, мы наблюдаем тот же процесс в более узко очерченной интеллектуальной сфере, в науке и литературе. Но если история последней обычно рассматривается с этой точки зрения, то в случае другой она еще не принималась во внимание или, по крайней мере, принималась недостаточно. История точных наук была и остается, конечно, интернациональной; только ненаучный шовинизм мог бы заставить ее изменить. Иначе обстоит дело с философией. Эмпирическое мышление является общим, поскольку его результатом является нечто объективное; рефлексивное и созерцательное, проявляется ли оно в художественном творчестве или философском осмыслении, предлагает нечто субъективное. О его достижениях нужно судить по личности мыслящего субъекта в более узком и более широком смысле, то есть, для нашего времени, по индивидуальному духу и по духу народа. Эта великая концепция истории философии как саморазвития человеческого всеобщего духа, краткая рекапитуляция которой появляется в мышлении индивидуального духа, всегда останется одной из самых гениальных и поучительных мыслей, но она не будет в полной мере соответствовать современному веку в своем осуществлении, если не будет дополнена с вышеописанной точки зрения. В самом деле, новейшая работа по истории, которая, вероятно, наиболее блестяще реализовала мысль Гегеля, уже содержит это дополнение в более чем одном направлении. Такая концепция окончательно устранит разделение между развитием современной философии и современной литературы в той мере, в какой оно существует до сих пор, и тем самым обеспечит истории обеих целесообразное дальнейшее развитие.



