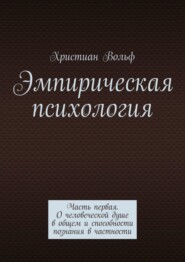
Полная версия:
Эмпирическая психология. Часть первая. О человеческой душе в общем и способности познания в частности
§. 6. Применение эмпирической психологии в естественном праве.
Эмпирическая психология передает принципы естественному праву. Естественное право демонстрирует, какие действия являются плохими, какие – хорошими (§.68 Предварительных дискуссий). Действительно, это подтверждается тем, что было сказано о эмпирическом в естественном и международном праве в Horis, добавленных в 1729 году. Trim. brum. n. II. §.6.15. и в свое время будет более явно продемонстрировано в универсальной практической философии, а также из самого естественного права станет очевидным, что причина действий, почему они хороши или плохи, вытекает из человеческой природы, следовательно, и из того, что присутствует в человеческом уме. Поэтому, поскольку в эмпирической психологии содержится то, что происходит в нашей душе (с. 2); из этого также следует выводить причины intrinsically хороших или плохих действий. Таким образом, психология передает принципы естественному праву (§. 866 Онтология). Это в первую очередь касается обязанностей человека по отношению к своей душе.
§. 7. Применение той же психологии в естественной теологии.
Эмпирическая философия проникает в естественную теологию и доносит до нее свои принципы. Ибо в естественном богословии мы имеем дело с Богом в его атрибутах (S. 57 Difc. Prelim.). Определение. предварительно.). С другой стороны, в естественной теологии мы должны достичь представлений о божественных атрибутах в той мере, в какой мы освобождаем представления о тех, которые присутствуют в человеческом разуме, от несовершенств и ограничений. Следовательно, поскольку в эмпирической психологии даны их четкие идеи, то их разум формируется в соответствии с действительностью (§.2) При формировании идей о божественных качествах естественное богословие помогает практикующемуся и, таким образом, вселяет естественное богословие.
В самом деле, поскольку в эмпирической психологии, как мы только что сказали, излагаются определенные понятия того, что входит в человеческий разум, можно абстрагировать общие принципы от всего сущего, что имеет некое сходство с душой, насколько это достаточно для образования определенного рода (§. 710 Лог.), то есть о Духе в общем. Поэтому, поскольку и Бог является Духом, как будет показано в естественной теологии, к нему также могут быть применены эти принципы (§. 346 Лог.). Таким образом, эмпирическая психология излагает принципы естественной теологии.
Отсюда становится понятно, что естественная теология должна страдать от многих недостатков, если эмпирическая психология не была должным образом развита. Чем глубже ты будешь углубляться в это, тем более обильный свет ты испытаешь в том. Понятия божественных атрибутов становятся различными и определенными, и отсюда полезными для рассуждений: это имеет множество применений не только в философии практической и естественной экспериментальной теологии, но также и в самой откровенной теологии.
§. 8. Применение в практической философии.
Эмпирическая психология излагает основные принципы практической философии. Мы уже представили демонстрацию (см. 92-й раздел предварительных замечаний), в которой показали, что практическая философия должна основываться на метафизических принципах, если в ней необходимо всё демонстрировать: это можно увидеть и в других местах. Безусловно, причина, по которой эмпирическая психология была проигнорирована, заключается в том, что этика, особенно практика добродетелей и избегание пороков, была полностью оставлена без внимания. Всё, что можно сказать по этому поводу, сводится к определению влечения: на определение влечения, в свою очередь, влияют все восприятия.
Причины, которые в психологии определяют влечение, находят свое отражение и в этике, применяясь к конкретным случаям. Вся философия морали выглядит совершенно иначе, когда мы рассматриваем ее через призму психологии, и только тогда мы можем понять, в какой степени добродетели находятся в нашей власти и что мешает нам их развивать. Более того, выводы, которые мы сделали в области моральной философии, могут и должны быть применены и к моральной теологии. Книги, написанные на эту тему, не смогут избежать бесполезности, если к ним не обратятся эксперты в области психологии с целью систематизации: о чем, как мне кажется, я уже упоминал. Это станет более понятным, когда мы представим систему моральной философии, основанную на а приорных принципах психологии.
§. 9. Применение в логике.
Эмпирическая психология излагает принципы логики. Мы вновь рассмотрели их применение в демонстрации, показывая, какие логические принципы существуют (§. 89 Предварительные обсуждения): с этим можно ознакомиться там же. Ясно, что если вы хотите представить априорное объяснение логических правил, следует обратиться к тому, что обсуждается в психологии относительно способности к познанию.
Таким образом, мы также представим логическую демонстративную методику, которая касается трех операций ума, различий в понятиях и формальном использовании терминов, имеющих собственное основание в эмпирической психологии. Через это вы сможете понять принципы, заимствованные из этой области. Вы заметите, что логика освещается гораздо ярче, чем глубже вы исследуете человеческий разум в психологии. Существует множество других примеров полезности эмпирической психологии, но этого достаточно, чтобы способствовать развитию психологии у тех, кто стремится к ясному знанию о Боге и о себе, а также к изучению добродетели. Поэтому мне захотелось повторить некоторые моменты, которые могли бы служить основой для предварительного обсуждения.
§. 10. Удовольствие от изучения психологии.
Изучение психологии эмпирически исследует стремление души к действию. Когда удовольствие наполняет множество радостей, это делает душу способной их воспринимать, и, таким образом, стремление к психологии не должно угасать. Действительно, эмпирическая психология передает то, что происходит в нашей душе (§. 2). Поэтому, когда душа, жаждущая действия, получает удовольствие от полученных знаний, она должна воспринимать это удовольствие из своего, прежде всего, определенного знания. Следовательно, когда знание души становится четким благодаря эмпирической психологии (§.5 67 Log.), она должна извлекать удовольствие из психологического стремления.
Поскольку в эмпирической психологии мы изучаем принципы, объясняющие, что происходит в человеческой душе (§1), а также причины явлений, связанных с сущностью, которые в конечном итоге исходят из самой сущности (§157 Онтология); мы познаем как сущности, так и их причины. Таким образом, тот, кто понимает, что такое человеческий разум, гораздо лучше может оценить его совершенство, чем тот, кто этого не знает: это очевидно. Поэтому, когда ниже будет показано, что из чувства совершенства возникает удовольствие, и что это удовольствие тем больше, чем глубже мы исследуем совершенство; через психологическое исследование человеческий дух становится способным к удовольствию, которое иначе бы на него не воздействовало.
Весна искренне выражает ту радость, которая наиболее подходит человеку, и которая возникает из понимания истины, как естественной, так и открытой, а также добродетели, как естественной, так и христианской. Чтобы мы могли более полно и точно понять это удовольствие, необходимо изучение психологии. Дело в том, что истинное счастье человека, которое мы можем ощутить на этой земле, заключается в восприятии этого удовольствия, как мы уже показывали в нашем исследовании универсальной практической философии; и насколько важно глубокое знание эмпирической психологии, становится очевидным.
Тем не менее, в ходе самого обсуждения у нас может появиться возможность получить четкое и полезное понимание человеческой души. Мы сможем развенчать распространенное предвзятое мнение о том, что нематериальная природа души мешает нам узнать о ней что-то конкретное и положительное.
FINIS PROLEGOMENORUM.
Часть первая. О человеческой душе в общем и способности познания в частности
Раздел I. O душе в общем
Глава первая. О существовании человеческой души
§.11. Основа познания – существование души
Мы сталкиваемся с влиянием внешних факторов в любой момент нашей жизни. Достаточно лишь сосредоточиться на наших восприятиях, чтобы быть уверенными в этом. Никто не должен удивляться тому, что мы представляем вещи, которые становятся очевидными для каждого, и никто не должен ставить это под сомнение. Мы действуем в соответствии с определённым методом. Когда необходимо что-то продемонстрировать, некоторые аспекты становятся обязательными, если ничего не следует из предположений. То, что предполагается, должно быть либо очевидным, либо должно быть ясно, что это уже было доказано ранее или допускается без дополнительных доказательств. Текущая идея относится к более высокому уровню понимания.
§.12. Уверенность в этих основах.
Наше сознание подтверждается самим фактом сомнения. Представь, что ты сомневаешься: осознаешь ли ты, что существуешь, или нет. Ты не можешь отрицать, что сомневаешься, когда сам это утверждаешь (§.28. Онтология и §205. Логика). Однако ты не знаешь, действительно ли сомневаешься, если только не из-за того, что осознаешь свое сомнение? Таким образом, ты утверждаешь, что осознаешь себя, когда говоришь, что сомневаешься в этом. Следовательно, твое осознание себя подтверждается самим сомнением. Мы воспользуемся этой идеей, чтобы показать, насколько очевидно знание о собственном существовании или, если угодно, о душе.
§.13. Принцип познания собственного существования.
Если что-то или кто-то способен совершать действия, то это означает, что это что-то или кто-то действительно существует, поскольку это утверждение настолько очевидно, что его следует принимать как аксиому, без необходимости дополнительных доказательств. Если вы это отвергнете, тогда придется принять, что какое-то существо, способное действовать по отношению к другим вещам, должно существовать, даже если само оно в данный момент не активно. Таким образом, этому существу присущи некоторые свойства еще до его существования, что невозможно считать абсурдным; существо, способное на действия, обязательно существует. В данном случае речь идет о специальном случае общего понятия, по которому мы выводим существование объекта. Например, если кто-то утверждает, что камень горячий, солнце светит или семя прорастает, говоря о конкретных случаях, это не вызывает сомнений в существовании камня, солнца или семени.
В нашей жизни существует некая общая идея, которая может быть выражена следующим образом: если что-то соответствует индивидууму или, если хотите, если мы можем что-то сказать о индивидууме, то это означает, что он существует. Эта общая идея предоставляет специальное утверждение, что видно из (e. Этот принцип позволяет свести знание о существовании нашей души к общей концепции. Здесь полезно сравнить то, что мы уже обсуждали в других местах (not, §. 370. & 393, а также not. §. 203.& 186. Онтология) и то, что касается полезности этого сокращения (not. §. 12 Онтология). Если бы философы больше обращали внимание на общие понятия, различали бы запутанное и выстраивали универсальные идеи на основе частных! Они бы на собственном опыте поняли, как важно это предположение для правильного философствования.
§. 14. Как нам становится известно о нашем существовании.
Мы существуем. Мы действительно осознаем себя и окружающие нас вещи (§. 11. Тот, кто осознает себя и другие вещи вне себя, действительно существует (§. 13.). Следовательно, мы существуем.
Таким образом, становится очевидным, что мы существуем, и никто, кто обращает внимание на себя, не может в этом сомневаться. Представь, что ты не существуешь и не осознаешь других вещей вне себя; как будто ты спишь. Разве когда-либо, находясь в состоянии сна, тебе приходит мысль о том, что ты существуешь? Кто бы мог это утверждать? Теперь представь, что ты бодрствуешь и осознаешь себя и окружающие вещи, но при этом не задумываешься о том, что осознающее существование действительно существует: ты, конечно, осознаешь себя, если чувствуешь себя, поскольку ты понимаешь, что действуешь и испытываешь; но мысль о своем существовании никогда не приходит тебе в голову. Таким образом, прежде чем мысль о существовании может возникнуть в твоем сознании, должна быть идея о том, что нечто осознающее действительно существует вне себя и других вещей.
Таким образом, мы сводим запутанное общее представление о нашем существовании к четкому определению и заявляем его как универсальный термин. Из этого следует, что, стремясь ответить на вопрос о том, откуда мы существуем или действительно ли мы существуем, мы должны сказать: мы действуем сейчас, как будто пишем, идем, видим, осознавая, что мы это делаем именно сейчас. Поскольку философы обязаны объяснять, почему те вещи, которые могут произойти, следуют из определенных причин (§. 31. Диск, прелим.), они также должны объяснить, почему мы уверены в своем существовании. Поэтому никого не должно удивлять, что мы принимаем такие вещи, которые, кажется, не требуют доказательства. Мы не принимаем наше существование без доказательства, как видно из сказанного. Таким образом, философы должны обучать тому, какое доказательство содержится в наших разумных предположениях.
§15. Уровни уверенности в познании существования
Познание нашего существования подтверждается самим фактом сомнения, или, исходя из того, что мы сомневаемся в том, существуем ли мы или нет, можно сделать вывод, что мы действительно существуем. Доказательства, приведенные в предыдущем утверждении, показывают, что мы осознаем свое существование, так как понимаем свое «я» и другие вещи, находящиеся вне нас. То, что мы осознаем свое «я» и окружающий мир, настолько очевидно, что само сомнение лишь подтверждает это (С. 12). Таким образом, познание нашего существования подтверждается самим сомнением.
Тем не менее, это также проявляется иным образом. Представим, что ты сомневаешься в том, существуешь ли ты или нет: поскольку ты осознаешь это сомнение, тот, кто действительно осознает себя, существует (§. 13); из того, что ты сомневаешься в своем существовании, ты можешь сделать вывод, что ты существуешь.
Отсюда становится очевидным, что существует определенная степень уверенности, соответствующая нашему знанию о существовании. Эта степень, безусловно, такова, что мы не можем представить ничего более убедительного. Что может быть более определенным, чем то, что подтверждается самим сомнением, или что ты выводишь из этого, сомневаешься ли ты в своем существовании. Таким образом, философы, исследуя основания такой уверенности, совершенно не могут быть осуждены за усилия, которые они прилагают, сводя рассуждения, с помощью которых мы приходим к выводу о нашем существовании, к четкому понятию.
§. 16. Каким образом мы познаем нашу экзистенцию с той же очевидностью.
Если что-то выводится через силлогизмы, чьи предпосылки являются недоказуемыми утверждениями или интуитивными суждениями, основанными на ясных опытах, то это познается так же, как мы осознаем свое существование. Знание о нашем существовании основывается на следующем силлогизме (§. 14): любое существо, которое осознает само себя и другие вещи вне себя, действительно существует. Мы, в свою очередь, осознаем себя и другие вещи вне нас. Следовательно, мы существуем. В этом силлогизме большая пропозиция выступает как принцип разума, в котором понятия субъекта и предиката связаны так тесно, что понятие субъекта в том же контексте соотносится с понятием предиката. Таким образом, эта пропозиция не подлежит доказательству (§. 263 Log.). Кроме того, она является теоретической (§. 266 Log.) и входит в число аксиом (§. 267 Log.). В меньшем силлогизме мы приписываем предикат, который мы осознаем в нашем понятии, и, следовательно, меньшая пропозиция представляет собой интуитивное суждение (§. 51 Log.). Это также основывается на таком ясном опыте (§. 11), который подтверждается сомнением (§. 12). Таким образом, знание о нашем существовании познается так же, как мы осознаем, что существуем, если что-то выводится через силлогизмы с недоказуемыми предпосылками или интуитивными суждениями, основанными на ясных опытах.
Очевидно, что здесь возникает важность различения того, как мы обретаем уверенность в своем существовании, а именно, что необходимо для того, чтобы мы познали это с такой же уверенностью, с какой осознаем сам процесс познания. В рациональной психологии и естественной теологии мы обсуждаем сложные истины, такие как бессмертие души и существование Бога; поэтому крайне важно понимать различные уровни той самой очевидности, на которой основано наше знание о собственном существовании.
§. 17. Уровни уверенности в том, что демонстрируется
Все, что демонстрируется, познается с той же очевидностью, с которой мы осознаем свое существование. Принципы демонстрации не включают ничего, кроме определений, неопровержимых опытов, аксиом и известных предложений (§. 562 Лог.). Поскольку определения являются идентичными предложениями (§. 214 Лог.), и, следовательно, аксиомы, если они сводятся к предложениям (§. 270 Лог.), то вместе с другими аксиомами они становятся недемонстрируемыми (§. 267 Лог.). Из определений, неопровержимых опытов и аксиом выводятся первичные предложения, которые затем включаются в число принципов демонстрации (§. 551 и след. Лог.); первичными принципами демонстрации являются неопровержимый опыт и недемонстрируемые предложения. Если что-то выводится через силлогизмы, чьи предпосылки являются недемонстрируемыми предложениями или интуитивными суждениями, основанными на ясных опытах, это познается с той же очевидностью, с которой мы осознаем свое существование (§. 16). Таким образом, то, что демонстрируется, познается с той же очевидностью, с которой мы знаем, что существуем. Никто не может не заметить, что речь идет о настоящих демонстрациях, а не о притязаниях, которые сейчас распространены. Однако несложно отличить подлинную демонстрацию от ложной, если вы обратили внимание на то, что мы описали о подлинной их форме (§. 511 и след. Лог.) и если вы обладаете достаточным опытом в оценке демонстраций.
§. 18. Какова очевидность геометрических истин.
Геометрические истины воспринимаются с той же очевидностью, с которой мы осознаем свое собственное существование. Эти истины действительно демонстрируются согласно строгим правилам, как мы показываем, когда описываем подлинные формы доказательств (§. 551 и далее Лог.). Все, что доказывается, воспринимается с той же очевидностью, с которой нам известно наше существование (§. 17). Таким образом, геометрические истины познаются с той же очевидностью, с которой мы осознаем свою природу. Мы говорим здесь о законных доказательствах, подобных тем, что представил Евклид вместе с другими древними геометрами. Мы не отрицаем, что в наше время иногда встречаются люди, которые отходят от строгих методов древних геометров и не удовлетворяют требования профессионалов в области доказательств. Более того, мы также признаем, что современные геометры иногда делают переход от природы к геометрии, что, как правило, не может быть объяснено законами доказательства и зачастую уходит от истины.
§. 19. Причина согласия, которую мы даем геометрическим истинам.
Поскольку геометрические истины, если они правильно доказываются, становятся очевидными и открывают нам свое существование (§. 18), неудивительно, что никто не может отрицать эти очевидности, кто понимает силу доказательств. Поэтому мы не поддерживаем, когда юным математикам предлагают истины без доказательства, так как они не могут быть уверены в их истинности. Важно, чтобы они сами ощущали силу доказательств, которая может быть извлечена даже против их воли. В противном случае различие между убеждением и простым воздействием никогда не будет ясным, и методы, которые не могут быть применены без возможности убеждения, не смогут привлечь к себе красоту и любовь. Действительно, многие считают, что доказательства вызывают отвращение у новичков, и поэтому стараются отговорить их от изучения математики. Однако наш многолетний опыт показывает, что это совсем не так, если вы знаете, как правильно разбирать доказательства, чтобы не запутаться и не быть неясным в обучении.
§. 20. Определение души.
Факт того, что в нас есть нечто, что существует само по себе и относительно других вещей вне нас, называется Душой. Это также иногда именуется человеческой душой или определением разума.
Определение этого понятия номинально, однако оно имеет позитивный характер. Реальная суть понятия становится понятна на основе дальнейшего анализа. В предыдущих разделах мы видели, что в нас есть нечто, что существует для себя и для других вещей за пределами нас. Как именно это явление проявляется, мы изучаем в эмпирической психологии. В конечном итоге, различия этого явления от органического тела будут показаны в рациональной психологии.
§. 21. Существование души.
Человеческая душа действительно существует. Мы существуем в той мере, в какой осознаем свою душу и окружающий нас мир (§. 14). Поскольку мы осознаем как свою душу, так и другие вещи вне нас, можно утверждать, что душа существует (§. 20). Таким образом, наша душа существует.
Становится очевидным, что, отвергая существование нашего «я», мы не доказали ничего, кроме того, что душа существует; существование нашего тела же остается под вопросом, так как до сих пор неясно, является ли то, что осознает себя, именно этим телом или же чем-то совершенно другим.
§. 22. Существование чего-либо, что признается в первую очередь.
Мы осознаем существование души еще до того, как осознаем существование тела. На самом деле, мы понимаем, что наша душа существует, потому что осознаем себя и другие вещи вне нас (§. 20 Психол. & §. 349 Лог.). Если же мы сомневаемся в реальном существовании тел, то осознаем это сомнение, и, следовательно, осознаем себя, так как сомневаемся. Таким образом, поскольку можно доказать, что мы существуем, осознавая себя и других (§. 14), мы познаем существование души, пока продолжаем сомневаться в существовании тела, и, таким образом, до того, как осознаем его существование.
Размышляя об этом, Рене Декарт в своей работе «Медитации» о первой философии пытается показать, что человеческий ум известнее тела. Он утверждает, что, сомневаясь во всем, мы через это сомнение осознаем свое существование, поскольку, конечно, мы мыслим, то есть являемся мыслящими существами. При этом под мыслящим существом он понимает нечто большее, чем просто физическое тело, как мы увидим позже. Первое, что мы можем с уверенностью утверждать, когда сомневаемся во всем остальном, это то, что связано с душой, а не с телом.
Таким образом, можно сказать, что человеческая душа известнее своего тела. В своей глубокой медитации Декарт, как и полагается проницательному философу, четко различает себя и других, когда речь идет о существовании нашего «я». Действительно, говоря о природе и сущности разума, он высказывает свое мнение, которое будет подробно изложено позже. Тем не менее, он утверждает, что первое, что мы знаем о нашей душе, – это то, что она мыслит, или, скорее, что она осознает себя как нечто, существующее вне ее, а также другие вещи.
Глава вторая. О том, как познать душу
§. 23. Что такое мышление.
Мы называемся мыслящими, когда осознаем те события, которые происходят внутри нас, и которые воспринимаются нами как нечто внешнее. Мышление, таким образом, является актом души, благодаря которому она осознает себя и окружающий мир. Это определение не противоречит обычному языковому употреблению, что становится очевидным через примеры. Когда мы смотрим на дерево, мы осознаем его существование и можем сказать, что думаем о нем. Когда мы представляем атрибуты Бога и идеи, которые у нас уже есть о них, мы осознаем это; мы говорим, что думаем о Боге. Когда мы представляем треугольник и осознаем этот образ, словно он перед нашими глазами, мы говорим, что думаем о треугольнике. Мы утверждаем, что думаем, когда осознаем существование определенных вещей или действий нашего разума. Однако, когда мы ничего не осознаем, как, например, во сне, мы заявляем, что не думаем. Это значение также сохраняет Декарт.
Таким образом, в первой части философии, статья 9, говорится, что под «размышлением» понимается всё, что происходит в нас, поскольку это связано с нашим сознанием. Это определение было четко обозначено и соответствует общепринятому употреблению языка, а также введено в философский дискурс (§. 142. 147 Дисциплина предварительная). Хотя существуют люди, которые расширяют понятие размышления на все изменения человеческого разума, даже на те, о которых они не осознают; мы оставляем им свободу выбирать любое значение этого слова, однако мы не намерены следовать за их трактовками.



